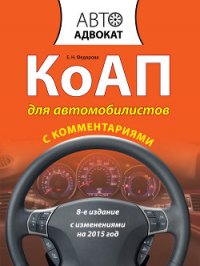На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной - Федорова Евгения (книги онлайн без регистрации полностью .txt) 📗
Вид у следовательницы довольный. Еще бы! Эта дуреха сама так кстати углубляет дело, так услужливо преподносит материал, которого даже и в «информационных сведениях» нет! С этим делом, можно считать, ей повезло!
Итак, в протоколе было записано: «Во время убийства товарища Кирова, находясь в квартире отца мужа, П. А. Селенкова, я вела террористические разговоры с сестрой мужа Ольгой Селенковой». Какие именно разговоры, уточнено не было, и я, как обычно в конце допроса, подписала бланк. Весь текст записывала сама следовательница (и вопросы и ответы), и, хотя она предлагала мне прочесть, от волнения у меня строчки прыгали перед глазами, и я ничего не видела перед собой. Да и к тому же это казалось мне пустой формальностью – я и так знала, что там все написано, как она хочет, а не как я.
Я подписала, полагая, что потом уточнится и выяснится, что разговоры наши были вполне невинными, лояльными, что других в семье свекра, действительно потрясенного убийством Кирова, и быть не могло. Что мы, как и все, были поражены этим убийством, которое и «террором» как-то странно было назвать. Понятие «террор» в нашем представлении отдавало чем-то чуть ли не средневековым и в рамки наших дней как-то не вписывалось. В конце концов, разве это не могло быть вообще не политическим убийством, а делом рук какого-нибудь психопата или ревнивца, наконец? Что мы знали о частной жизни Кирова? Ничего.
…Помню день, когда похоронная процессия во главе со Сталиным двинулась из Таврического дворца на Московский вокзал. Был очень холодный зимний день. Окна дома на Выборгской стороне, где жила семья моего мужа, выходили на Неву. С высоты пятого этажа можно было видеть на другой стороне Невы переулок, перпендикулярный к Таврической улице, по которой следовала траурная процессия. Мы с Лелькой стояли на подоконнике и, открыв форточку, всматривались в морозную даль. Мы думали, что, когда процессия будет пересекать этот переулок, нам что-нибудь удастся увидеть из окна.
Мы ничего не увидели, но в этот миг как раз завыли, застонали, заревели сотни сирен и гудков на Неве и заводах. Это была жуткая, трагическая симфония, плач вслух… Плач миллионного города, плач многострадальной страны.
Мы стояли и слушали, оцепенев, едва дыша. Тогда мы еще не знали, что это не только плач о безвременно и ни за что погибшем человеке, но и рыдание о тысячах и тысячах ни в чем не повинных людей, которым уже так скоро суждено было погибнуть из-за этого события…
…Тут мне хочется остановить «машину времени» на 1924 годе, когда я впервые познакомилась с семьей моего мужа Мака, и немного рассказать о ней и о других наших родственниках, с которыми я прожила несколько счастливых лет и подружилась с моей сверстницей Ольгой Селенковой, которую все называли Лелей.
Семья была большая (восемь детей), веселая, шумливая, порой «ругливая», но в общем очень дружная и хорошая. Когда я в нее вошла, младшим было лет по 10–12. Старшим был мой муж Макаша. В семье Селенковых всегда гостили какие-то деревенские родственники, а по соседству, в том же доме, жил дядя Вася с женой и сыном, которые, конечно, дневали и ночевали у нас.
Я привезла с собой маму. Старшие девочки обзавелись мужьями, а вскоре и детьми, и по воскресеньям, когда вся семья собиралась в «зале» на традиционный «чай с пирожками», за стол садилось не менее 20 человек.
Не знаю, когда мама, та мама – Селенкова, вставала в ночь под воскресенье? Может быть, и вовсе не ложилась, но утром на столе неизменно появлялись подносы с горами пышных, румяных пирожков на все вкусы: с морковкой, капустой, рисом, мясом, рыбой и жареным луком.
Никто не помогал маме их делать – кухня была ее суверенным владением, и никому не разрешалось туда соваться. Да у всех и своих дел было по горло. У кого – работа, у кого – учеба, у кого – и то и другое.
Удивительным человеком была эта простая неграмотная крестьянка из нижегородских лесов! Так и умерла неграмотной. У нее всегда хватало любви и простых, но всегда ласковых и ободряющих слов на всю эту беспокойную ораву. За все те годы, что мы прожили рядом, я не слышала от нее не только какого-нибудь резкого слова, но даже повышенного, раздраженного тона.
Философия ее была простой и ясной: дети растут в иное время, в иной обстановке и им виднее, что к чему и как надо жить. Мое же дело – чтобы все были сыты, умыты, обшиты, обстираны. Впрочем, уже в мою бытность в этой семье от стирки мы маму освобождали. Стирали на всю ораву двое: я и Лелька. С утра занимали прачечную, помещавшуюся в подвале. Мы же жили на пятом этаже и перетаскивали оттуда вниз узлы с бельем. Во время этих стирок и началась наша с Лелькой дружба. Мы без конца говорили обо всем на свете, делились впечатлениями об увиденном и услышанном, радовались общим взглядам на многие вещи.
К вечеру отстиранное, выполосканное и отжатое белье складывалось в огромные корзины с двумя ручками, и наши мужчины – папа, Мак и его брат Саша спускались в прачечную, чтобы тащить корзины на чердак. Такая «генеральная» стирка происходила два раза в месяц…
Мама моего мужа попала в Ленинград, тогда еще дореволюционный Петербург, из глухой деревеньки Селенково Ветлужского уезда Нижегородской губернии, где все жители были, вероятно, в каком-то родстве и носили фамилию Селенковы.
Когда ее мужа Павла, отца всех будущих детей, забрали в солдаты, он благодаря своему гигантскому росту и богатырскому сложению угодил в Питерский гренадерский полк. В деревне осталась беременная молодуха. Вскоре родился мальчик Макарий, которого так назвали в церкви, к великому огорчению матери. Она хотела назвать первенца Ванечкой, но делать было нечего. Мальчик родился под Макарьев день. Поп, крестивший его, справился в святцах, а возивший младенца на крестины кум и вовсе позабыл, что мать наказывала назвать новорожденного Иваном.
…Не помню подробностей, но гренадер почему-то вернулся из полка всего лет через десять – то ли раньше времени, то ли срок службы тогда уже сократили, но, так как питерская жизнь ему приглянулась, Павел забрал жену и мальчонку и окончательно расстался с родной деревней, обосновавшись в городе. Был он хорошим столяром-краснодеревщиком и вполне мог надеяться на свои руки.
Каждый год в семье прибавлялось по ребенку. Некоторые умирали, но большинство выживало. Ко времени революции было их уже восемь – трое мальчиков и пять девочек. Отец не только столярничал. Он был грамотный, читал газеты, жития святых и Библию. Читал и вникал. В конце концов решил, что и в Библии, и в житиях святых правды мало, а неправды кругом хоть отбавляй. В 1916-м он записался в социал-демократическую партию и стал убежденным революционером.
Дети росли разными. Муж мой был старше других и еще до революции окончил реальное училище. Учить детей было заветной мечтой отца. Но потом у Мака произошел с ним разлад. Выучивши сына в реальном, отец полагал, что теперь ученый сын начнет работать и разделит с ним заботы о многочисленном семействе, где ребятишек было мал мала меньше. А Мак вдруг захотел еще учиться. Реального училища ему показалось мало.
Мастерская столяра и квартира многочисленного семейства находились в гавани, у самой Маркизовой лужи, как тогда называли прибрежные воды Финского залива. Целыми днями летом мальчишки гоняли по пескам и плескались в «Луже». Строили нехитрые корабли из деревянных бадеек. И там, на побережье, впервые увидел маленький Макаша человека, пленившего его сердце. Незнакомец сидел на складном стульчике и рисовал разноцветными красками какую-то картину. Мак тихонько подобрался сзади и, затаив дыхание, смотрел на живописца. Тот тыкал в холст то одной, то другой кистью, и перед зачарованным мальчиком вырисовывались нежно-перламутровое море, очертания далекого берега в дымке и синее небо с розоватыми облаками.
Это решило участь старшего сына Селенкова. Художника звали Н. И. Хижинский. Он заметил мальчика, часами наблюдавшего за его работой. Подарил ему карандаш. Познакомились, подружились. У мальчика оказались способности, и Хижинский начал его учить.