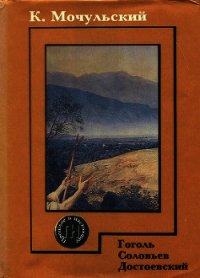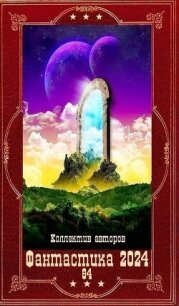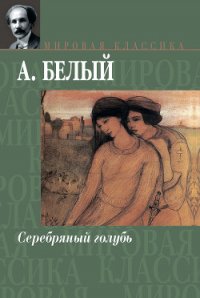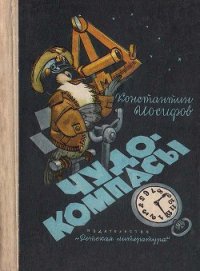Андрей Белый. Новаторское творчество и личные катастрофы знаменитого поэта и писателя-символиста - Мочульский Константин Васильевич
Возвращаясь к русскому символизму, автор отмечает два пути его, две его «правды». Есть правда проповеди у Мережковского и правда искусства у Брюсова. «Мережковский, – пишет Белый, – слишком ранний предтеча „дела“, Брюсов – слишком поздний предтеча „слова“». В русской современной литературе дело и слово еще не соединены. И статья заканчивается неожиданным, зловещим заявлением: «Есть общее в нас, пишущих и читающих – все мы в голодных бесплодных равнинах русских, где искони водит нас нечистая сила».
Это – одна из самых значительных статей Белого. Она точно определяет культурно-исторический смысл символического движения. Исходя из западноевропейского «декадентства» и ницшеанского индивидуализма русское искусство начала XX века приходит к подлинной народности и религиозности и заново открывает великую литературу XIX столетия. Путь его идет от упадочничества к возрождению; оно заслуживает почетного звания «Русского Ренессанса». Сближение лирического мира Блока с миром сектантства и Прекрасной Дамы с «хлыстовской Богородицей» принадлежит к самым глубоким интуициям критика – Белого.
1908 год
В январе 1908 года Белый приезжает в Петербург, читает лекцию «Фридрих Ницше и предвестия современности». Блок на лекции не был, но поэты встретились в нейтральном месте – в ресторане Палкина – и проговорили несколько часов. «Установили дружеские личные отношения и вражеские – литературные» (письмо Блока к матери от 21 января). 1908 год был в жизни Белого «темная яма»; Россия была придавлена мрачной реакцией; учащались клубы «огарочников» среди молодежи; господствовала «санинская» психология [18]; героем дня был провокатор Азеф, общество казалось зараженным скепсисом и цинизмом. Белый продолжал работать в «Весах», но чувствовал: журнал находится в агонии; читал доклады в Обществе свободной эстетики и в литературно-художественном кружке, но прежнего увлечения уже не было. «Душевный мрак, – пишет он в своих мемуарах, – в уединении я сочинял стихи, потом вошедшие в „Урну“… „Не превозмочь“ – лозунг дней: не превозмочь прошлого: чувство уныния – последствия операции (обескровленность). Я разочаровался даже в литературной тактике, которой недавно еще отдавался; я с горечью видел: на течении, мной любимом, наштамповывается ерунда случайными людьми; и ерунда пройдет в будущем под флагом символизма».
От одиночества и тоски Белый спасался в философию: строил гносеологические обоснования символизма;
погружался в системы Риккерта, Когена, Наторпа; за это ему часто доставалось от друзей-философов: Бердяева, Булгакова, Шпета. Они утверждали, это поэт перекроил Риккерта на свой лад и что от него ничего не осталось. Насмешливый и острый Г.Г. Шпет подшучивал над его «риккертовским фраком». «Борису Николаевичу, – говорил он, – на философской дуэли приходится рвать его фрак; ничего: он приходит домой, обязательно чинит его; и потом появляется сызнова, как ни в чем не бывало, в починенном фраке».
С переездом в Москву Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова Московское религиозно-философское общество оживилось. Председатель его Г.А. Рачинский выпускал Белого как представителя «левого религиозного устремления» против слишком, на его вкус, ортодоксальных Булгакова, Эрна, князя Е.Н. Трубецкого. «Приблизительно в то же время, – вспоминает Белый, – в мир мысли моей входит Н.А. Бердяев. Оригинальный мыслитель, прошедший и школу социологической мысли и школу Канта, мне импонировал в нем и большой человек, преисполненный рыцарства; вместе с тем поражал в нем живой человек. Мне нравилась в нем прямота, откровенность позиции мысли, и мне нравилась добрая улыбка «из-под догматизма» сентенций и грустный всегда взгляд сверкающих глаз, ассирийская голова; так симпатия к А.Н. Бердяеву в годах жизни естественно выросла в чувство любви, уважения, дружбы».
В 1908 году переселяется из Нижнего в Москву старый друг Белого Э.К. Метнер: это был единственный человек, с которым он мог откровенно говорить о своей душевной драме – разрыве с Блоками. Метнер, поклонник Канта, Гёте и Бетховена, с любовью принялся, как выражается Белый, «гармонизировать мир его сознания при помощи музыки, философии и культуры». В истории с Блоком он увидел «проблему мучительного перехода от романтизма к классической ясности». У нас нет данных судить о том, помогла ли бедному поэту эта ученая «гармонизация», но Белый не обманывал себя. «Увлечение философией, – пишет он, – выражение внутреннего одиночества». Блок искал забвения в вине и страстях, Белый – в неокантианской логике.
В апреле выходит в издательстве «Скорпион» «Кубок метелей. Четвертая симфония», со следующим посвящением: «С глубоким уважением посвящает автор книгу Николаю Карловичу Метнеру, внушившему тему симфонии, и дорогому другу Зинаиде Николаевне Гиппиус, разрешившей эту тему». В предисловии Белый рассказывает историю создания симфонии: «Тема метелей возникла у меня давно – еще в 1903 году. Тогда же написаны некоторые (впоследствии переработанные) отрывки. Первые две части в первоначальной редакции были готовы уже в 1904 году (впоследствии я их переработал). Тогда же основной мотив метели был мною точно определен. Наконец, первая часть в законченном виде была готова в июне 1906 года (два года я по многим причинам не мог работать над „Симфонией“); при переписке я включил лишь некоторые сатирические сцены – не более». Из того же предисловия мы узнаем о замысле автора, столь неудачно воплощенном в «Кубке метелей».
«Оканчивая свою „Четвертую симфонию“, – пишет Белый, – я нахожусь в некотором недоумении. Кто ее будет читать? Кому она нужна? Я работал над ней долго и старался, по возможности, точнее обрисовать некоторые переживания, подстилающие, так сказать, фон обыденной жизни и по существу невоплотимые в образах. Эти переживания, облеченные в форму повторяющихся тем, проходящие сквозь всю „Симфонию“, представлены как бы в увеличительном стекле. Тут я встретился с двумя родами недоумения: следует ли при выборе образа переживанию, по существу не воплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его (то есть, чтобы образ вмещал возможный максимум переживания)? Передо мной обозначились два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний, разложение их на составные части. Я избрал второй путь и потому-то недоумеваю: есть ли предлагаемая „Симфония“ художественное произведение или документ сознания современной души, быть может любопытный для будущего психолога? Меня интересовал конструктивный механизм той смутно сознаваемой формы, которой были написаны предыдущие мои „Симфонии“: там конструкция сама собой напрашивалась и отчетливого представления о том, чем должна быть „симфония“ в литературе, у меня не было. В предлагаемой „Симфонии“ я более всего старался быть точным в экспозиции тем, в их контрапункте, соединении и т. д. …На „Симфонию“ свою я смотрел во время работы лишь как на структурную задачу. Я до сих пор не знаю, имеет ли она право на существование… Только объективная оценка будущего решит, имеют ли смысл мои структурные вычисления или они парадокс.
В заключение скажу о задаче фабулы, хотя она и тесно связана с техникой письма. В предлагаемой „Симфонии“ я хотел изобразить всю гамму той особого рода любви, которую смутно предощущает наша эпоха, как предощущали ее и раньше Платон, Гёте, Данте – священной любви. Если и возможно в будущем новое религиозное сознание, то путь к нему – только через любовь… Должен оговориться, что пока я не вижу достоверных путей реализации этого смутного зова от любви к религии любви. Вот почему мне хотелось изобразить обетованную землю этой любви из метели, золота, неба и ветра. Тема метелей – это смутно зовущий порыв. Куда? К жизни или смерти? К безумию или мудрости? И „души любящих растворяются в метели“».
Предисловие к «Симфонии» значительно интереснее самой «Симфонии». Задача разложения переживаний на составные части и превращения их в симфонические темы, попытка построения литературного произведения по законам контрапункта – замысел смелый и увлекательный. Изображение «священной любви» как пути к «новому религиозному сознанию» – тема, достойная Платона и Данте. Но эти высокие намерения не были осуществлены. «Кубок метелей» – самая вымученная, искусственная и сумбурная из «симфоний» Белого. Она была встречена недоумением и молчанием. Неудачу «Кубка метелей» автор пытался объяснить тем, что он «перемудрил». «С 1902 до 1908 г., – пишет он в «Начале века», – я только мудрил над одним произведением, калеча его новыми редакциями, чтобы в 1908 г. выпустить четверо-яко искалеченный текст». В книге «Между двух революций» он сообщает любопытные подробности работы над четвертой «симфонией». «В 1906 году в Мюнхене я вытащил текст уже когда-то готовой симфонии, мысля ее переделать, мечтая о разных технических трюках, как то: с материалом фраз я хотел поступить так, как Вагнер с мелодией: мыслил тематику строгою линией ритма: подсобные темы – две женщины, „ангел“ и „демон“; слиянные в духе героя в одну, не по правилам логики, а контрапункта. Но фабула не поддавалась формуле: фабула виделась мне монолитною, а формула ее дробила в два мира: мир галлюцинаций сознания и материальный… Я был обречен разбить образ в вариации вихрей звучаний и блесков; так строился „Кубок метелей“. Он выявил раз навсегда невозможность „симфонии“ в слове».