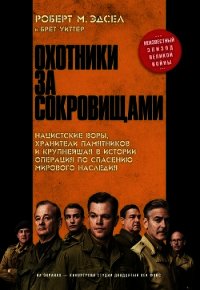Пока не сказано прощай . Год жизни с радостью - Уиттер Брет (читаем книги .TXT) 📗
Лиза предложила мне сделать татуировку бровей, век и губ. Я согласилась.
— О боже, милая, ты уверена? — спросила Стеф, тоже фанатка косметики. — Это же навсегда. И это больно.
— И еще у меня нет выбора, — добавила я.
Боль никогда не была для меня проблемой. У меня повышенный болевой порог. Беременная и на высоких каблуках — вот это я. Я даже согласилась подвергнуть себя самой болезненной операции, на какую только может решиться женщина: эпиляции воском зоны бикини. После этого шоу ужасов с вырыванием волос я радикально изменила свое представление о том, что такое боль.
— Ну, тогда я пойду с тобой, — сказала Стеф. — Должен же кто-то убедиться, что у нее стерильные инструменты и что она не превратит тебя в клоуна.
На татуировку лица уходит несколько часов. Брови, например, рисуют по волоску под специальным увеличительным стеклом. Губы требуют сотен уколов, и каждый раз кончик иглы внедряет под кожу каплю краски.
Но только вот какой краски? Это и было самое сложное.
Лиза заказала по каталогу цвет, который, как она считала, будет хорошо смотреться на моих губах. Краска была похожа на оранжевый вазелин.
— Вы не увидите так много оранжевого, — сказала Лиза. Вечные чернила, заверила она меня, совершенно иначе смотрятся, когда они под слоем кожи.
— Ни за что! — ответила я. — Никакого оранжевого.
Она попробовала красный. Что ж, красный я люблю, но только в темноте.
Я попросила ее скопировать «изюмную ярость». Ей удалось смешать оттенок сливы, который мне понравился. Для подводки и бровей мы выбрали коричневый.
Лиза выщипала мне брови, потом нарисовала новые, такой формы, какую я хотела видеть.
«Господи! — подумала я в восторге. — Наконец-то у меня будут высокие бровки!» Всю жизнь брови у меня были прямые, как отвертки.
Лиза смазала рабочую поверхность анестезирующим кремом. Включила свой инструмент.
«Зззз… ззз… ззз…» — звенела игла всякий раз, вводя краску.
Первые десять минут я не дышала. Стеф внимательно следила за каждым проходом иглы. Коричневая краска для бровей выглядела лиловой. Стеф спросила, нормально ли это.
— Да, — сказала Лиза. — Не волнуйтесь.
Так она прозызыкала над каждой бровью целый час.
Потом поднесла мне зеркало. Мои новые брови были вспухшими и кровавыми, но в остальном вполне ничего.
Затем настала очередь глаз, которые необходимо было держать открытыми, чтобы она могла сделать подводку.
— Мне бы понадобилась полная анестезия, — сказала Стеф.
Я не могла моргнуть. Я не могла позволить себе даже дрожание века — так близко от глаза была игла. Я лежала как каменная, глубокое спокойствие овладело мной.
Включай свой дзен, Сьюзен.
Мы решили сделать дополнительный проход по внешним уголкам глаз, чтобы это выглядело как супертолстая угловая ресничка. Такой визажистский фокус, придающий величину и открытость глазам.
И наконец губы. Лиза предупреждала, что с ними будет больнее всего, и, не жалея, наложила анестезирующий крем.
Я хотела, чтобы она раскрасила мне губы целиком, а не просто навела контуры. Мне всегда казались смешными губы, с которых съелась вся помада и осталась только подводка.
Лиза зажужжала иглой. Я зажмурилась. Губы — чувствительное место. Иначе почему поцелуи так приятны?
Небольшой изгиб в центре верхней губы называется луком Купидона. Пока Лиза работала, у меня было такое чувство, как будто Купидон молотит меня своим луком по губам. Больше всего в тот момент мне хотелось выскочить из своей чувствительной кожи.
Сделав глубокий вдох, я задумалась о самом лучшем поцелуе, который был у меня в жизни, — первом поцелуе истинной страсти, не слишком крепком, зато произведенном губами подходящего размера, которые накрыли каждый миллиметр моих губ, в то время как мягкий кончик языка ощупывал контур моего рта.
Я все думала и думала о том поцелуе, о той ночи много лет назад.
И тут оказалось, что мои губы готовы.
Я посмотрела в зеркало. Сплошная опухоль и кровоподтеки.
— В ближайшие недели все будет меняться, — повторила Лиза в двадцатый раз. — Истинный цвет проявляется только после того, как отшелушится кожа.
Она дала мне целый информационный бюллетень, в котором были подробно расписаны все «что», «где» и «когда», включая фазы шелушения кожи, когда татуировка будет казаться синей, и когда цвет исчезнет полностью, и когда брови в период заживления будут казаться шире и ярче, чем они есть.
— Не волнуйтесь! Все будет очень красиво! — сказала она.
Мы со Стеф сели в машину и поехали домой. Я бросила взгляд в зеркало заднего вида. Оттуда на меня глядел Граучо Маркс. Мои брови выглядели как большие черные пиявки, присосавшиеся ко лбу.
Больше я в зеркало не смотрела, только надеялась на лучшее. «Что сделано, то сделано, — думала я. — Что толку тревожиться».
В последующие недели мое лицо походило на психоделическую картинку. Затаив дыхание, я, как святой елей, накладывала заживляющую мазь, которую рекомендовала мне Лиза, и ждала, отсчитывая фазы по моему информационному бюллетеню.
— Ну, как я выгляжу? — в двадцатый раз спрашивала я у Джона.
Бедняга.
Я ведь не только выглядела, как Граучо Маркс, я и была Граучо. Как, интересно, должен был отвечать на мои дурацкие вопросы муж, проживший со мной, слава богу, двадцать лет?
— Давай я тебе помажу, может, заживет быстрее, — предлагал он.
Достойный ответ.
Все время, пока усыхало мое тело и менялся мой внешний вид, Джон неизменно находил достойный ответ. Без слова протеста он поддерживал меня, даже когда мое лицо стало неузнаваемым.
А потом все зажило. И я стала выглядеть лучше. Куда лучше, чем совсем без макияжа.
Это снова была я, такая, какой я преподносила себя миру на протяжении двадцати последних лет. Чуть потоньше в щеках. С легким дрожанием мышц. Но все же я.
Ах, макияж, макияж. Ты все еще в моей власти.
Та часть моей внешности, которая не изменится никогда.
Венгрия
Февраль
Молодость

Я встретила Джона Вендела в водном центре Лейк-Литал, в пригороде Вест-Палм-Бич. Я тогда только окончила Университет Северной Каролины и работала в команде спасателей. Джон был учителем старших классов, тренером по плаванию, бывшим лучшим пловцом колледжа и приходил на озеро тренироваться.
С замиранием сердца я следила за тем, как он двигается в воде: длинные плавные движения рук несли его роскошное тело вперед, словно торпеду, и вообще он походил на бронзовое изваяние в натуральную — шесть футов один дюйм — величину.
Джон был до того хорош собой, что после двух лет нашего с ним взаимного вышучивания я подговорила подругу позвонить ему и сказать, что его выбрали в качестве модели для фото на календарь спасателей на водах в Палм-Бич — в трусах.
В тот вечер он позвонил мне сам, простачок. Я тогда уже училась в магистратуре, так что наши свидания происходили по телефону.
— Привет, Сьюзен, угадай что? — начал он. — Я буду сниматься для календаря в одних плавках. И мне разрешили выбрать месяц. Я попросил декабрь, потому что в декабре твой день рождения.
— Джон…
— Что?
— Какой сегодня день?
— Вторник.
— Нет, число какое?
— Апрель, первое…
Это был день апрельского дурака. Он рассмеялся.
Так первоапрельская шутка на тему сексуальности заложила традицию, в которую вошла затем и классическая хохма Обри и Марины с шоколадной редиской и липким унитазом. За двадцать три года мы немало носов натянули друг другу, особенно вначале.
Как-то раз я спрятала драгоценный Джонов мотоцикл, чтобы он решил, будто его украли.
— Черт меня побери! — орал он, поддавая ногой мотоциклетный шлем, который летал по всей квартире.
— С днем дурака! — сказала я.