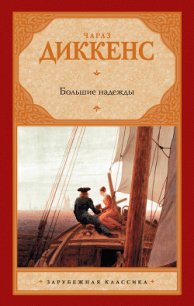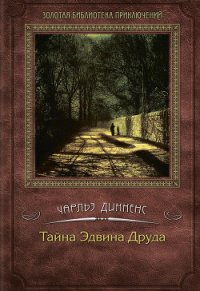Диккенс - Пирсон Хескет (читать книги полностью без сокращений .TXT) 📗
24 ноября (Чэпмену и Холлу): «Меня засыпали умоляющими письмами — все советуют пощадить бедняжку Нелл. Вчера — шесть штук, сегодня — уже четыре (а еще нет и двенадцати часов!)».
22 декабря (Джорджу Кеттермолу): «Вконец истерзался из-за этой вещи, не могу заставить себя кончить ее».
7 января 1841 года: «Нет на земле существа более несчастного, чем я. Я до такой степени угнетен и подавлен, что даже передвигаюсь с трудом... Много времени потребуется, чтобы прийти в себя. Никому так не будет недоставать ее, как мне. Все это так больно, что я не могу по-настоящему выразить свою скорбь: при одной только мысли открываются старые раны. Придется все-таки об этом написать, а чего это мне будет стоить — одному богу известно. Не могу утешиться прописными истинами, хотя и пробую. Стоит подумать об этой печальной истории, и сразу кажется, что только вчера умерла моя дорогая Мэри... Отклонил несколько приглашений на эту неделю и на следующую. Решил никуда не ходить, пока не кончу роман. Боюсь спугнуть настроение, которым постарался проникнуться, — не хочу, чтобы снова пришлось все это воскрешать...»
14 января (Джорджу Кеттермолу): «Пока что я еле жив от работы и от скорби по моей утраченной малютке...»
17 января: «Очень грустно думать, что все эти люди навек потеряны для меня. Кажется, никогда я уж не смогу так привязаться к моим новым героям».
13 марта (Томасу Латимеру): «Думаю, что эту вещь навсегда полюбил больше всех, которые успел написать до сих пор или когда-либо напишу».
На современников Диккенса маленькая Нелл произвела почти такое же душераздирающее впечатление, как на автора книги. Объясняется это тем, что обычная спутница черствости и жестокости — сентиментальность. Сытый век, нагулявший жирок на каторжном детском труде, на рабском труде негров, на грабежах в Индии, на многих других преступлениях, — этот век таял, как воск, читая о страданиях чистой и прелестной девочки, с удовольствием расплачиваясь за свои злодейства слезами о маленькой Нелл. Никто не умеет рыдать так безудержно, как закоренелые негодяи. В качестве доказательства можно привести один случай. В Чикаго шла сентиментальная пьеса. Публика преимущественно состояла из гангстеров, и в те редкие мгновенья, когда эти бандиты отрывали от лиц платки, было видно, что их глаза распухли от слез. Естественно, что «Лавка древностей» особенно сильно подействовала на самых, мягко выражаясь, закаленных из современников Диккенса: на Карлейля, который плакал над нею, как дитя; Дэниэла О'Коннела [91], который, содрогаясь от рыданий, вышвырнул книгу из окна, потому что был не в силах примириться с гибелью ангельского ребенка, на Уолтера Сэведжа Лендора, который (когда к нему вернулся дар речи) поставил героиню романа в один ряд с Джульеттой и Дездемоной; на Фрэнсиса Джеффри, ныне судью, а ранее деспотичного редактора и беспощадного критика «Эдинбургского обозрения», который заливался горькими слезами, читая о смерти «бозовской малютки Нелл», и, где бы ни появлялся, твердил во всеуслышание, что с того времени, как была создана Корделия, литература не знает творения столь совершенного, как маленькая Нелл. Чем дальше на запад проникала «Лавка древностей», чем более грубыми и суровыми становились ее читатели, тем громче звучали рыдания. Когда пароход, на борту которого плыл в Америку последний выпуск романа, пришел в Нью-Йорк, толпы народа встретили его на набережной дружным ревом: «Маленькая Нелл жива?» А какие горестные стоны оглашали прерии, когда книга попадала в руки ковбоев! Что делалось, когда отрывок, написанный белыми стихами (Диккенс, расчувствовавшись, грешил иногда белым стихом), читали на калифорнийских рудниках, под мерцающими звездами убийцы, грабители, насильники! Человек, способный так потрясти эпоху, — сам, разумеется, ее дитя: была и в Диккенсе известная доля жестокости, и не мудрено, что творения его фантазии бывали подчас такими сентиментальными.
Хотя мысль о маленькой Нелл появилась у Диккенса, когда он вместе с Лендором жил в Бате, а мысль о Квилпе — после того, как он там уже увидел карлика-уродца, Нелл — это сознательно идеализированный портрет Мэри Хогарт, а Квилп нечаянно наделен многими чертами самого писателя. «Нельзя вызвать у читателей интерес к литературному герою, не заставив их прежде полюбить или возненавидеть его», — писал он. Он приступил к роману с намерением внушить всем пламенную любовь к малютке Нелл и отвращение к Квилпу. Если говорить о девятнадцатом веке, ему это удалось. С современным читателем дело обстоит иначе: героиню романа мы скорее всего найдем скучноватой; карлик же приведет нас в восторг. В конечном итоге, как говорит Ланселот Гоббо, побеждает правда [92]: сегодня мы читаем «Лавку древностей» не ради ее путаных сентиментальностей, а ради зерен правды — непосредственных наблюдений, невольных маленьких откровений. К шедеврам юмористической литературы можно смело отнести сцены, посвященные стряпчему Сэмпсону Брассу, личности темной и подобострастной, и его неугомонному хозяину Квилпу, с которым Диккенс щедро поделился собственной озорной чертовщинкой. Нет ничего смешнее — имея в виду, что это гротеск, конечно, — чем раболепный ужас, который испытывает стряпчий, явившись на пристань навестить Квилпа, после того как оба проходимца сумели упрятать в тюрьму мальчугана, ложно обвинив его в воровстве. Брасс застает карлика в одиночестве: опьяненный успехом, Квилп неистовствует, выкрикивая во весь голос текст газетного отчета об этом происшествии:
«— Доброго здоровьица, сэр! — вымолвил Сэмпсон, просовывая голову в дверь. — Ха-ха-ха! Вечер добрый! Весельчак же вы, сэр, бог с вами! Удивительно забавно, ей-ей!
— Входи, болван! — отозвался карлик. — Чего стоишь, головой крутишь? Хватит скалить зубы! Входи, лжесвидетель, клеветник, взяточник, входи же!
— Бездна юмора! — взвизгнул Брасс, закрывая за собою дверь. — Поразительный комедийный талант! Но, быть может, это все же чуточку неблагоразумно, сэр?
— Неблагоразумно, иуда? — вопросил Квилп. — Что — неблагоразумно?
— Иуда! — пискнул Брасс. — Да он в отличном расположении духа! Изящество и тонкость этих шуток! Иуда — каково! Нет, прямо бесподобно, клянусь честью! Ха-ха-ха!
— А ну, поди сюда, — молвил Квилп, жестом подзывая его поближе, — Что там такое неблагоразумно, ну?
— Да ничего особенного, сэр, безделица. Нестоящее дело, сэр, и говорить-то нечего... Просто мне почудилось, что ли... песенка эта — необычайно, знаете, остроумная штучка, но только, возможно, она отчасти...
— М-да? — вставил Квилп. — Отчасти — что?
— Близка к тому — не слишком близка, а как говорится, так, еле-еле, — чуть приближается к тому, что принято считать неблагоразумным — предположительно, сэр, — отозвался Брасс, боязливо заглядывая в хитрые глазки карлика, устремленные к огню, который отражался в них красными бликами.
— Отчего же? — процедил Квилп, не отрывая взгляда от печки.
— Вот ведь что, сэр, — Брасс набрался храбрости и заговорил менее раболепно, — тут дело такое, сэр; бывает, друзья сойдутся, посовещаются с самыми благими намерениями — все тихо, мирно, а в устах закона это называется тайный заговор, улавливаете, сэр? Так не лучше ли обо всем об этом помалкивать? Мы с вами знаем — и крышка!
— М-м? — протянул Квилп, повернувшись к нему с отсутствующим видом. — Ты это о чем?
— Вот именно, совершенно верно — осмотрительность и еще раз осмотрительность! — обрадовался и закивал головой Брасс. — Ни гугу, сэр, даже и здесь, — об этом-то я как раз и толкую, сэр.
— Об этом? Ах ты, нахальное пугало! Да о чем? — рявкнул Квилп. — Что ты тут болтаешь о каких-то совещаниях? С кем это я совещаюсь? Да я знать ничего не знаю!
— Да-да, конечно, сэр! Ничегошеньки, ясно! — отозвался Брасс.
— А будешь еще здесь подмигивать и кивать, — заключил карлик, озираясь по сторонам, будто бы ища кочергу, — я тебе, обезьяна, всю рожу перекрою, запомни.