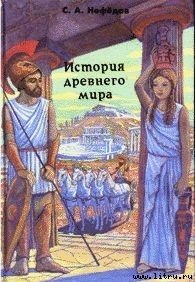Миряне – кто они? Как в православии найти самого себя. Современные истории - Нефедова Марина
Но с прозой у меня отношения более сложные. Я ее пишу, потому что не получаю ответов на свои вопросы в том, что уже написано. Ну, и просто – я себя тут нашел. Получается, не получается – это не так важно. Я лично, вот такой, какой я есть, тут себя нашел. Мне хорошо в литературе.
– Вообще писатель для чего пишет?
– Ни для чего. Это маниакальное состояние. Повторюсь: если можно все то же самое пережить, просто созерцая или читая, лучше пережить все то же самое, созерцая или читая. Писательство – это даже не переживание, это проживание. Ты перерабатываешь эти бесконечные слова, роешь, как крот. Роешь, роешь, роешь. Для чего крот роет? Живет он так, вот и все. Вот и писатель пишет, потому что он так живет. Это не самое легкое дело, но, если оно твое, ты без него не можешь.
– А чем настоящий писатель отличается от ненастоящего?
– Я не знаю. Но хорошая книга от плохой отличается тем, что она живая. Если глаз «начитан», ты понимаешь это очень быстро. Это может тебе не нравиться, это может быть не твое – отношения с литературой вообще должны быть напряженные, – но ты сразу видишь, есть здесь дыхание или нет, есть словесный слух у автора или нет. Умеет он построить конструкцию и остаться при этом непредсказуемым – или не умеет. Умеет – значит, писатель. Нет – значит, уже ничем не поможешь. А вообще у меня нет отношений с писателями. У меня есть отношения с книгами. Я могу любить у определенного писателя только одну книгу из всех. Так же и с моими книгами: у меня есть два романа, и людям нравится либо один, либо другой. Причем если нравится один, то очень не нравится другой. Это – нормальное дело. Это как поиск рифмы. Ты все время находишься в поиске рифмы.
– У литературы есть какая-то задача? Ведь можно быть нравственным человеком и при этом не прочесть ни одной книжки…
– Можно. Митрополиту Антонию Сурожскому кто-то из молодых священников сказал: «Владыка, а Серафим Саровский книжек не читал, а был святым». На что владыка ответил: «Можешь стать святым – не читай».
Да, я думаю, что в раю нет книжек. Потому что сам рай есть книга, внутри которой мы прописаны. Но сейчас мы не в раю. И нам нужны вспомогательные плавсредства. Мы тонем. Книга может помочь выплыть. Потому что, во-первых, читая, мы в каком-то подобии проживаем чужую жизнь, мы раскрываем свое сознание. Во-вторых, мы учимся тому, насколько жизнь сложна и запутанна. Литература учит не положительным примерам. Она учит самой невероятной сложности жизнеустройства. Она – антидот, противоядие, которое дают еще до того, как в тебя впрыснули яд. Поэтому в детстве так важно читать. И важно читать книжки про плохое, про путаное. Бояться разговора с подростком о каких-то неприятных вещах – от наркотиков до распада семьи – это роковая ошибка. Лучше в подобии получить рассказ о том, как сложна жизнь, чем получить сладкую сказку, а потом столкнуться с этой искривленной реальностью.
– Вы хотели бы победить в «Большой книге»?
– Я, несомненно, хотел бы, чтобы книжку читали и она хорошо продавалась, и для этого надо куда-то попасть. Но это просто механизм. Награда и признание в этом смысле всегда случайны.
– А почему, если писатель пишет, потому что не может не писать, ему важно, чтобы его еще и читали?
– Потому что это может быть суррогатный, но все-таки разговор с другим человеком. Причем это разговор в тех формах, в каких в реальности не поговоришь. И о тех вещах, о которых ты напрямую не скажешь. Когда ты отдаешь книжку читателям, ты пускаешь их внутрь себя. Это странный, почти мистический процесс. Почти. Я не склонен придавать этому какого-то грандиозного значения, но это удивительное чувство: ты впускаешь в свой мир разных людей, они приходят – и либо слышат тебя, либо не слышат. Это очень трудно описать. Но это один из мотивов, который побуждает тебя писать. Я говорил, что на телевидении у меня нет зависимости от аудитории. А с книжками есть. Надеюсь, не очень тяжелая.
– И как же – вы всех пускаете, и чужие могут войти и натоптать там…
– Нет, книжки ведь так и пишутся, что в них чужой не войдет. Тот, кому у тебя неуютно, слишком просторно или, наоборот, слишком тесно, – не пойдет к тебе. Пролезет в щель только тот, кто может в нее пролезть.
Лава не застыла
– Как историк, как вы оцениваете то, что происходит сейчас в России?
– Я думаю, мы, с одной стороны, переживаем, надеюсь, последний этап распада империи. То есть те процессы, которые начались – кто считает, что в 1985-м, кто – в 1991-м, – эти процессы еще не завершились. Лава не застыла. Наверное, скоро начнет застывать. Границы государства окончательно определятся, люди осознают себя людьми, перед которыми стоят совершенно другие исторические задачи. Мы поймем, кто мы в России: национальное государство, империя или какое-то совершенно иное общество, – кто наши друзья, кто наши враги, кто соседи, кто мы сами.
– Думаете, мы поймем это в конце концов?
– А куда мы денемся? Но развилка трудная, потому что, прежде чем лава застынет, мы можем пережить еще один распад. Я надеюсь, что этого не будет, я большой противник распадов. Но пока мы не имеем ответа на очень важный вопрос: что нас будет в конечном счете объединять?
– Вы раньше говорили, что язык. Сейчас вы так уже не считаете?
– Язык может объединять и после распада. Дело в том, что мы разочаровались в модернизации – мы думали, что обновленная Россия нас всех будет вдохновлять. Это как-то не получилось. Теперь мы думаем, что нас всех будет объединять архаика – то, как было в прошлом. Но проблема в том, что, во-первых, это никогда не работает. А во-вторых, абсолютное большинство традиций умерло. То, что мы выдаем за традиции, – это конструкции. Это все придумано. Хотя мы так любим об этом говорить, мы просто не понимаем, что это значит – традиционные ценности. Во-первых, заметьте, оба слова нетрадиционные, очень поздние. Да и слово «культура» тоже очень позднее, Пушкин не понял бы название нашего телеканала. Все, что мы выдаем за древность, является плохо прикрытой новизной. А если вы хотите себе представить, что такое воплощенные традиционные ценности, – вспомните Кончиту Вурст, бородатую женщину. Нет ничего более традиционного, чем бородатая женщина на средневековой ярмарке. Прямым ходом из Средних веков нам на блюдечке принесли эту воплощенную традиционную ценность. Вы хотите иметь такие традиционные ценности?
А в Провидении нет никакой архаики. И модернизации в нем нет. В нем есть вечно меняющаяся вечная неизменность. И есть готовность и открытость этому. Мы готовы меняться, оставаясь самими собой? Если готовы, что-то может получиться. Нет – архаические конструкции всегда ведут к потере того, что мы надеялись с их помощью сохранить.
Нас может объединить готовность двигаться в будущее вместе. Мы должны сказать, что нас не прошлое объединяет – нас объединяет будущее.
Будущее, которое мы хотим построить вместе. И в этом будущем должны будут рядом оказаться и консерваторы, и модернисты. А может, вообще не будет ни консерваторов, ни модернистов.
Понимаете, будущее – это мир наших детей. Если мы ради наших детей готовы двигаться вперед, давайте начнем этот разговор. Может быть, у нас еще есть время. Хотя я уже не уверен.
– Вы как-то говорили, что жизнь – это эскалатор, и для того, чтобы не опускаться вниз, надо все время бежать вверх…
– Знаете, в последнее время у меня ощущение, что эскалатор существует, мы по нему бежим, но уже само здание начинает опускаться вниз. Вот тут мы уже бессильны.
– Звучит пугающе…
– Ну, я трезвый человек. Я не люблю впадать в истерики, но мне кажется, что мы не имеем права прятаться от того, что наблюдаем. Это не значит, что мы выносим исторический приговор. Господь Бог сам решит, когда и что Ему прекращать. Но трезвый анализ говорит, что здание медленно и неуклонно погружается в пучину…