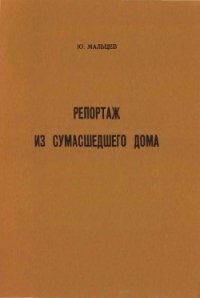Черные камни - Жигулин Анатолий Владимирович (книги онлайн полностью бесплатно .txt) 📗
— Они их вольнягам толкают по тридцатке, новые телогрейки, — сказал кто-то, — как по тридцать сребреников за чужую жизнь.
— Кто толкает?
— Кто ворует. Суки, потерявшие совесть.
— А ты знаешь кого-нибудь из них?
— Откуда же я могу знать? Ищи ветра в поле. Люди посочувствовали мне и забыли, занятые своими делами.
Я уже давно знал, что обращаться к начальству лагеря, даже к заключенному начальству, — дело совершенно бесполезное. Новую телогрейку не выдадут, только п р о м о т запишут в личное дело Плохо, очень плохо начиналась для меня лютая зима 1951/52 года. Укравший из-за тридцати рублей обрекал меня на смерть от замерзания или простуды.
Убил бы и сейчас этого гада — так много мук испытать пришлось мне из-за отсутствия телогрейки. Ежедневно приходилось просить телогрейку у больных или у работавших в другие смены. А телогрейка даже больным или свободным от работы все равно зимой была нужна — сходить в столовую, в уборную и т. п. зимой в одном бушлате, без телогрейки, холодно. Морозы за 50, 60 и даже за 70 градусов стояли долгими месяцами. За 50 градусов — до четырех месяцев подряд.
Стараюсь припомнить тех, кто делился со мною телогрейкой. Чаще всего это были западные украинцы, бурильщик Иван Матюшенко, откатчик Федор Рыбас, из русских — Василий Еремеев и другие, забытые. Из немцев — Ганс. Он был мобилизован в неполных пятнадцать лет, в 45-м году, уже в апреле, попал в лагерь для военнопленных, а оттуда по статье 58-10 угодил на Колыму. Всех — и кого назвал, и кого не назвал — и украинцев, и русских, и литовцев, и других
— всех, кого помню и кого забыл из тех, кто делился со мною телогрейкой зимою 1951/52 года, от всей души благодарю! Спасибо вам, дорогие товарищи мои!…
Чтобы не забыть, запишу, как Ганс (чаще мы его звали Иваном) смешно рассказывал анекдоты (он плохо знал русский язык).
— Идет по лесу волк. А навстречу ему идет — не знаю, как назвать, — красный такой собака — в лесу бегает, фукс называется!
— Лисица! Давай дальше!
— Да, лисица, — давай дальше…
Я потом дружил с ним, с Гансом-Иваном, и на Центральном, и на руднике имени Белова. Однажды, в глухую колымскую зиму, он принес откуда-то необыкновенное чудо — два больших свежих, словно их только что с куста сорвали, красных помидора. А я с раннего детства не любил помидоров и никогда их не ел. И вот в восторге от того, что может и хочет это сделать, Ганс подает мне один из этих двух помидоров. Разве можно было отказаться? С тех пор я стал есть помидоры. Тот был первый. Между первым и вторым моим помидором прошло три с половиной года, второй я съел уже в родном Воронеже.
Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само собой воспоминание о веселом, радостном — пусть чрезвычайно редком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспоминания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и тепло — два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На первом месте — Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда.
Не всегда, однако, удавалось мне добыть телогрейку. Раза два или три той грозной зимою выходил я на работу в одном только бушлате. А работа моя была уже не в шахте на 6-м горизонте, где я начинал свою горняцкую эпопею в 23-м квершлаге — катали вагонетку вместе с Володей Филиным, — а на 47-й штольне, метров на 500 выше дна распадка, в котором был расположен огромный рудник № 1. Поднимаясь на высокую эту штольню и порой таща с напарником вверх по обледенелым камням рельсы, я и простудился, и стали болеть у меня почки, и стал я харкать кровью.
И я опять попросился в шахту на 6-й горизонт. Рудник № 1 был километрах в полутора-двух от жилой зоны Центрального. Морозы были лютые, и это расстояние мы вместе с конвоем пробегали почти бегом. Шахта, главная шахта рудника № 1, была зарезана в сером граните. Гранит — порода общая для всех бутугычагских гор, а следовательно, и шахт. В главную шахту рудника № 1, на 240-метровую глубину, нас спускали на клети, она принимала человек десять-двенадцать или одну вагонетку типа «Анаконда» с породой или рудой, 23-й квершлаг был освещен стационарными лампочками, но, разумеется, не до забоя. И мы, откатчики, пользовались для освещения карбидными лампами. Светильники эти несовершенные, их задувало ветром, а спичек у нас не было, но работать с ними можно, когда рядом другие откатчики с огоньками карбидок. Аккумуляторными электролампочками с небольшой фарой на каске или шапке были снабжены бурильщики, а также бригадиры и их помощники-спиногрызы. Очень точное слово. Спиногрызы должны были как бы сидеть на работягах и грызть спины.
Володя Филин уже работал в другой бригаде, совсем в другой отрасли огромного производства — в пыжеделке. Я попал в бригаду белоруса Николая Протасевича. Был он довольно щуплым, но жилистым и, пожалуй, повыше меня. Ему нравилось, что я «природный русак» (он и себя называл русаком и фамилию свою произносил с русским окончанием: «Протасов» — и от других того требовал), и предложил он мне стать его помощником, спиногрызом:
— Будем честными суками, будем жить красиво! Будем спирт пить и сало жрать! Если кто против — вот, погляди.
И он показал мне какой-то странный, скорее бутафорский, чем настоящий, нож. Нож был раза в полтора длиннее, чем полагается быть финке, и был вырезан из лезвия обыкновенной ножовки. Я взял нож и сказал:
— Не годится эта штука, Николай.
— Почему?
— А вот смотри! — и я легко согнул лезвие в дугу — И вообще я тебе лезть в суки не советую. Ты ведь не блатной, а всего-навсего бывший полицай. А у нас в БУРе настоящие воришки сидят. Неровен час… Сам понимаешь. Не буду я у тебя спиногрызом. Я честный битый фрайер*.
(*Фрайер — обычно объект воровского промысла — грабежа обмана и т.п. Битый фрайер — человек, не принадлежащий к блатному миру, однако умеющий за себя постоять, его легко не проведешь, он может и сдачи дать.)
— Там в БУРе только один Леха Косой. А с нами сам Купа, и все бугры, и все начальство.
— Нет, не буду я у тебя спиногрызом.
— Будешь!
— Не буду!
Протасевич, не надеясь на свою бутафорскую финку, не стал меня резать. Он взял тонкое бревнышко из привезенных на козе для рудстройки и стал меня им бить по бокам — по легким, по почкам. Бил он вполсилы и как бы нехотя, словно чего-то не понимал, чего-то боялся. Однако и несильные его удары очень больно отдавались внутри, в почках, наверное. И с каждым ударом у меня изо рта вылетал кровавый сгусток. Я был очень слаб и не мог оказать Протасевичу сопротивления. Даже забурник для меня был тяжел. Спас меня бурильщик Иван Матюшенко:
— Пан бригадир Протасов! Вы его так убьете, а сейчас опять ввели смертную казнь за лагерный бандитизм!
Протасевич оставил меня.
— И в самом деле, не стоит за такого вышку получать. А еще природный русак! Да и не русак он! — обрадовался вдруг своей неожиданной мысли Протасевич. — Не русак он, а жид натуральный! Верно, Матюшенко?
— Hi, пан Протасов, на жида вiн не похож. Руський вiн, русак.
— Жид, жид. Я их знаю хорошо. Я их в газмашину десятками запихивал.
Протасевич легко нашел себе двух спиногрызов. С одним из них, Николаем Чернухой (кажется, 1923 года рождения), мы были до этого в нормальных, даже приличных отношениях. Сам он родился в Харбине, в семье белоэмигранта, но отец его был из Борисоглебска Воронежской области. Таким образом, получилось, что мы с ним почти земляки. Другого, Ивана Дзюбу, лютого бандеровца, я раньше не знал. Оба они с радостью подхватили слова Протасевича, что я еврей. Как они издевались надо мною, не буду описывать — больно. Скажу только, что за то, что я якобы еврей, меня почти ежедневно били. И так случилось, что некому было мне помочь. У меня началась депрессия. Все ревело, орало и стучало вокруг меня: