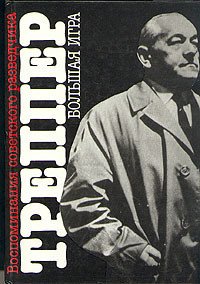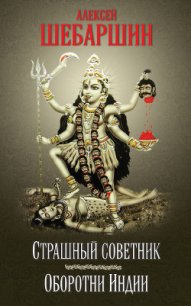Путешествие в страну Зе-Ка - Марголин Юлий (лучшие бесплатные книги .txt) 📗
Я и без них знал, что надо работать, чтобы выжить в лагере. Но я уже видел, что ничто — никакое усилие не гарантирует нам спасения жизни. Я ненавидел этот вечный лагерный припев, эту единственную заповедь советского Синая, эту зловещую каторжную мудрость, которую день и ночь вколачивали в мозги и души миллионов рабов, пока она не становилась их единственным духовным достоянием. «Не рассуждать! это уже сделали за вас другие! ваше дело — работать!» — Я, человек Запада, знал, что надо прежде всего быть человеком. Только свободный человек знает радость свободного труда, и для него этот труд имеет смысл, потому что служит цели, которую он выбирает и в которую верит. — В противном случае лозунг «работать надо», который набожно и слепо повторяют миллионы темных людей в Советском Союзе, как судьбу, как предназначение, как неотвратимый фатум их жалкой жизни, есть лошадиная мудрость, одинаково применимая к людям и животным. Эта мудрость уравнивала в достоинстве коня и возчика в лагере, сливала их в одно тело центавра, в одно понятие «рабгужсилы»! — Я сам по себе ничего не стоил, мое право на жизнь измерялось процентами рабочей нормы. — «Кто не работает, тот не ест» — это была вторая угроза, которая висела над нами. Я вспомнил, как в занятом Львове, в сентябре 1939 года развесили по улицам и бульварам щиты с этой надписью, которая казалась откровением высшей справедливости. Неправда! Труд из-под палки, труд по принуждению не спасает человечества. Достаточно, если мы провозгласим лозунг: «кто работает, тот ест». Как же я тосковал в Круглице по моей родине, по стране, где каждый работающий сыт, и где поэтому не считают хлеба иждивенцам семьи и общества! Здесь и тот, кто работал — не был сыт. Разница между мной — слабым работником — и Семиволосом, стахановцем — была только в степени нужды.
Было неоспоримо, что масса лагерных заключенных по мере того, как она теряла физические силы, переставала хотеть работать. Не это было удивительно, а то, что еще встречались люди, у которых не исчезла потребность работы. Такая потребность есть естественный результат здоровья, накопленных сил и нормальной трудоспособности. Наслаждение работой знакомо каждому, кто умеет что-нибудь делать — умеет по-настоящеему, как мастер в своем деле. Нас заставляли делать то, чего мы не умели, а потом обвиняли нас в том, что мы не умеем, потому что не хотим работать. Но в действительности наше нехотение означало только, что v нас нет сил и нет возможности работать. Как немыслим скрипач, который отказывается от скрипки, так немыслим физически здоровый и сильный человек, которого не тянет к работе. Мы жили в лагерях в атмосфере преступления. Но преступлением не было отвращение и страх пред работой людей, еле волочивших ноги от слабости, — преступлением была та социальная система, которая право на труд превратила в обязанность навязанного труда, — лагерная система, которая впервые объяснила мне явление вредительства. Я никогда не был вредителем в лагере, но я понял, как возникает циничное и вредительское отношение к работе у людей, полных смертельной ненависти к ярму, которое на них надели, и к упряжке, которую их заставили носить против воли.
Обо всем этом я, конечно, не разговаривал с Семиволосом. Человек этот был слишком примитивно-здоров, чтобы быть мне товарищем. Вдруг вечером, поев на наре свой бригадирский ужин, он мне протянул свой котелок и сказал небрежно и лениво, думая о чем-то другом:
— Марголин, вымойте мой котелок…
Я не понял, в чем дело — не понял, что между мной и им нет равенства, и я должен оказывать ему подобные мелкие услуги, чтобы оправдать свое существование в его великолепной бригаде, — и ответил простодушно:
— Нет, я уж свой вымыл, и не схожу больше…
Через день Семиволос, не говоря мне ни слова, выписал мне на «рабочем сведении» первый (штрафной) котел и 400 грамм хлеба. Вся бригада получала по 600 грамм. Когда это повторилось на второй и третий день, я пошел к начальнику работ и попросил дать мне другую работу.
Начальник работ был у нас Александр Иванович — высокий и худой русский поляк со впалыми щеками и чеховской бородкой — мягкий и участливый человек, никогда не подымавший голоса и всеми уважаемый. Несмотря на то, что он никогда не говорил с нами по-польски и, может быть, уже не владел этим языком — он относился особенно внимательно к западникам — внимательно до жалостливости. Александру Ивановичу я объяснил, что мне трудно ходить в лес за несколько километров. Он покивал головой, подумал и сказал:
— Выходите завтра с пятой бригадой на сельхоз… на горшечную фабрику…
Так я стал горшечником.
В пятой бригаде было человек сорок. Наполовину она состояла из женщин, работавших в теплицах совхоза, огородниц, подготовлявших рассаду капусты и других овощей. Эти женщины проводили свой рабочий день в парниковом тепле, носили чистые новые бушлаты и сапоги, ходили в мужских ушанках, но мужская одежда сидела на них аккуратнее, чем на мужчинах, и с лиц их, преждевременно поблекших и усталых, еще не стерлись следы городского происхождения. Мне нельзя было входить в большую теплицу, где висели часы — известные по всему Сов. Союзу стандартные часы с зеленым квадратным циферблатом и двумя гирьками на цепочке, — но я часто заглядывал узнать время. Если я не натыкался на стрелка, то Тася — немолодая, похожая на учительницу женщина с неторопливыми мягкими движениями и черными грустными глазами — не прогоняла меня, и я мог постоять минутку в тепле. Впрочем, пока я был горшечником, мне не нужно было этого.
Выходя из ворот лагеря, мы пересекали улицу поселка, проходили между разбросанных домиков — в одном был «ларек» для вольных, в другом жила Валентина Васильевна, главврач Крутицкого Сангородка — минуя пожарный сарай, оставляли вправо постройки ЦТРМ — шли полем, и через приоткрытые ворота входили на территорию сельхоза. Вся бригада, замыкаемая стрелком с ружьем, шла на центральный двор, откуда группками расходились на разные работы. Мы, горшечники, сворачивали, не доходя двора, и брели гуськом в свою сторону, метров за 300 в конец сельхоза. Темно еще было, когда мы доходили до двери убогой развалившейся лачуги, где спал ночью сторож. Ему полагалось натопить к нашему приходу, но когда мы вступали, спотыкаясь в темноте и пробираясь ощупью — холодище веял нам навстречу. Крошечная избушка на курьих ножках, с разбитым окошком с земляным неровным полом, успела простыть; сторож стопил все поленья, приготовленные с вечера на ночь. В темноте мы садились на опрокинутые деревянные ящики и молчали, пока серый рассвет не проступал в окошке. Тогда выходили на двор, поискать кусок дерева на растопку, кто-нибудь отправлялся с салазками на центральный двор раздобыть дров, стащить в крайнем случае, — и, затопив печку, становились к станкам.
Мы лепили горшочки для капустной рассады. Среди избушки стояла низкая глиняная печурка-плита. Вдоль стен на уровне груди тянулись полки, засыпанные землей. У полок стояли разбитые старые станки. Их было 4-5. Они выглядели как узкие деревянные ступы, и в каждый была вставлена металлическая чашка. В эту чашку мы набивали руками землю с полки, потом туда же вставляли массивный металлический стакан на рукоятке и, нажав на ручку, несколько раз сильно вращали стакан в обе стороны. Между стаканом и стенками чашки выдавливался ладный горшочек или стаканчик. На дне чашки был стержень, на который надевался стакан, имевший отверстие на дне в центре. Края горшочка мы выравнивали ладонью. Получался гладкий плотный стаканчик для капустной рассады, с круглой дыркой внизу.
Норма на эти стаканчики была огромная, но мы все имели скидку от Санчасти, и от нас требовалось всего лишь по 500 штук с человека. Работая по 10 часов в день, мы должны были делать по 50 штук в час, чтобы выполнить свою норму. У каждого под рукой стояли плоские деревянные ящички, куда мы и укладывали один к одному свои стаканчики, как дети, лепящие бабки. Каждый час приезжала с санками Нинка, девчонка из сушилки, и отвозила нашу продукцию. В сушилке вели счет — от кого сколько принято — и браковали негодные стаканчики.