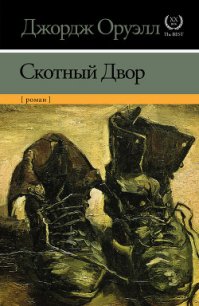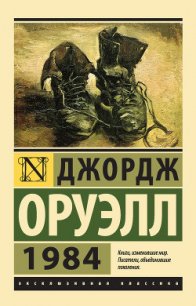Наперекор порядку вещей... (Четыре хроники честной автобиографии) - Оруэлл Джордж (читать полную версию книги txt) 📗
Следующий рассказчик напомнил о Гилдрое, шотландском разбойнике: Гилдроя приговорили к виселице, а он убежал, захватил приговорившего судью и сам — шикарный парень! — судью повесил. Бродяги любят конечно героев исторических, но интересно, как они сюжеты о героях переиначивают. Скажем, по их версии Гилдрой бежал в Америку, хотя известно, что его поймали и казнили. Правка несомненно делается сознательно, целенаправленно — точно также дети подправляют истории Самсона и Робин Гуда счастливыми, то есть весьма фантастичными, концовками.
В русле исторических повествований один очень старый бродяга заявил, что статья о «покушении на жизнь» возникла из-за случаев, когда дворяне в старину травили кусачими гончими людей вместо оленей. Некоторые смеялись, но в голове у старика крепко сидела своя идея. Что-то понаслышке ему было известно и насчет «Хлебных законов», и насчет «права первой ночи» (которое он полагал доныне существующим), и о «Великом мятеже» [136], который он — путая, видимо, с крестьянскими бунтами, — считал восстанием бедняков против богачей. Вряд ли старик умел читать, во всяком случае он безусловно не пересказывал статьи в газетах. Долетевшие до него обрывки исторических сведений передавались бродягами из поколения в поколение, возможно на протяжении веков. Отзвук древней устной традиции, слабое эхо средневековья.
В шесть вечера мы с Падди вошли в торчок, в десять утра вышли оттуда. Ничего нового после торчков Ромтона и Эдбери, и привидение нам не явилось. Зато завязалось знакомство с парочкой бывших рыбаков из Норфолка, Вильямом и Фредом, озорными ребятами, большими любителями песен. Украшавшую их репертуар «Бедную Беллу» стоило записать. Впрочем, прослушав «Беллу» в следующие двое суток раз десять, я запомнил ее наизусть и перевру лишь словечко-другое. Песня такая:
Сочинено, надо полагать, женщиной.
Фред и Вильям, исполнители этой баллады, представляли собой тот сорт отпетых прохиндеев, из-за которых у бродяг дурная слава. Узнав случайно, что в торчке Кромли собран запас старой одежды для раздачи вконец оборванным гостям, ребята на подходе к торчку сняли башмаки, кое-где распороли швы, частично отодрали подошвы и потом заявились с просьбой о помощи. При виде их драных подметок бродяг-майор выдал две пары почти новой обуви, наутро сразу же, чуть ли не возле выхода проданной за шиллинг и девять пенсов. За такие гроши привести практически в негодность свои хорошие ботинки парням казалось дельцем стоящим.
Из торчка все мы длинным унылым караваном побрели на юг, в сторону Нижнего Бинфилда и Айд-Хилла. По дороге случилась драка: двое вдруг поссорились (глупейший casus belli состоял в том, что один сказал другому «больше жри», а тому послышалось «большевик» — смертельное оскорбление) [137] и схватились посреди поля. Около дюжины зрителей остались наблюдать. В память мне врезалась деталь — поверженный противник падает и слетевшая кепка обнажает белизну совершенно седой шевелюры. Потом кто-то из нас вмешался, драку прекратили. Падди тем временем провел дознание, выяснив в итоге, что истинной причиной ссоры был как всегда дележ убогих крох съестного.
В Нижний Бинфилд мы прибыли совсем рано; чтобы занять время Падди отправился по дворам в поиске работенки. У одной задней двери ему наконец велели разобрать ящики на дрова, он в качестве необходимого помощника привел меня, и мы вдвоем все сделали. Тогда хозяин распорядился напоить нас чаем. Не забуду, с каким испуганным видом служанка вынесла поднос и, обомлев на полпути от страха, поставив чай наш прямо на дорожку, бросилась обратно в дом скорей закрыться. Такой ужас внушает само слово «бродяга». Получив за работу по шесть пенсов, мы купили трехпенсовый каравай и пол-унции табака, пять пенсов оставили про запас.
Наши пять пенсов Падди для страховки решил припрятать ввиду слухов о деспотизме местного бродяг-майора, который обладателей даже столь скудного капитала мог в торчок не пустить. Вообще бродяги имеют обыкновение прятать деньги, зашивая контрабандные суммы в одежду, что карается арестом (если поймают, разумеется). У Чумаря и Падди была на эту тему славная байка. Однажды некого ирландца (ирландцем называл его Чумарь, а Падди — англичанином), отнюдь не нищего, имевшего при себе целых тридцать фунтов, занесло в деревушку, где ему не удалось устроиться на ночь. Какой-то встреченный им бродяга посоветовал пойти в ближайший работный дом. Рекомендация здравая: негде переночевать — иди и за весьма умеренную цену возьми спальное место в приюте. Ирландец, однако, решил быть самым умным и даром получить такой ночлег, прикинувшись обычной бездомной голью. Тридцать фунтов он зашил под подкладку. Между тем, консультант его, который все наблюдал, пошел в тот же торчок, а там тихонько договорился с надзирателем — отпросился утром уйти пораньше, якобы на работу. И в шесть утра спокойно убыл, облачившись в костюм ирландца. Начал было ирландец жаловаться на грабеж, но получил только тридцать суток за незаконное вторжение в приют для неимущих.
Устало растянувшись на газоне сквера Нижнего Бинфилда, мы лежали под неусыпным наблюдением глазевших в дверные оконца своих коттеджей местных жителей. Подошли священник с дочерью, некоторое время молча рассматривали нас, как рыб в аквариуме, потом ушли. Ожидающих постепенно собралось несколько дюжин. Явились, распевая очередную песню, Вильям и Фред, и те двое, что по пути дрались, и Билл-скулежник, успевший выскулить в пекарне черствых буханок, спрятанных за пазухой на его голой под курткой груди, а теперь, к нашему общему удовольствию, разделенных на всех. Была и женщина, первая женщина, которую я видел среди бродяг. Потрепанная и заляпанная грязью толстуха лет шестидесяти, в длинной, волочившейся по земле черной юбке, она сидела с чрезвычайно надменным видом, и, едва кто-нибудь располагался рядом, презрительно отсаживалась дальше.