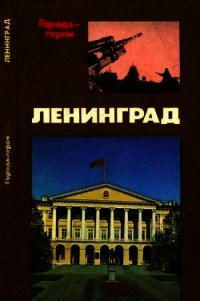Севастополь. Сборник литературно-художественных произведений о героической обороне и освобождении го - Петров Евгений Петрович
Хлеб и снаряды, сахар и пулеметы, табак и пушки, письма детей, отцов, матерей, жен, любимых девушек. И винтовки, и танки. Все присылает Большая Земля — нежная и могучая, суровая и любящая. Задержится корабль в пути, и Севастополь грустит:
— Как Большая Земля? Что на Большой Земле? Помнят ли, не забыли ли?
Но Большая Земля никогда не забывает.
Вот они идут, вот они дымят на горизонте — боевые корабли, транспорты, теплоходы. И вот падают в воду немецкие снаряды, вздымая к небу гигантские фонтаны.
— Наших не возьмешь, умеют.
Севастопольцы с сияющими глазами встречают посланцев Большой Земли. И когда корабль проскакивает ворота бон и уходит под сень гостеприимной бухты, севастопольцы озорно говорят:
— На вот, выкуси!
Это — фашистским артиллеристам, обстреливающим морские подходы к городу.
Улыбаются артиллеристы, получившие пушки и снаряды. Это — с Большой Земли. Улыбаются красноармейцы и моряки-пехотинцы, получившие табачок, сахар, консервы, гранаты, автоматы. Это — с Большой Земли.
Улыбаются все — рабочие и работницы в подземельях, старые боевые генералы, полковники и молодые капитаны, улыбаются дети и старушки на Северной, на Корабельной, в слободке Коммунаров, в Инкермане и рыбаки в Балаклаве. Улыбаются все, читая быстрый почерк жены, большие каракули сына, неразборчивые дрожащие строки матери и длинные, писанные мелко-мелко, на многих страницах, письма любимых.
Это счастье пришло с Большой Земли. Теплый шарф, мягкий платочек, красивый кисет, банка варенья, кожаные перчатки, папиросы, трубка, мундштук, зажигалка — поток драгоценных, волнующих подарков. И это прислала Мать-Родина, Большая Земля.
Большая Земля! Тысячи зримых и незримых нитей связывают Севастополь с Большой Землей. Мысли, чувства, сердца севастопольцев и мысли, чувства, сердца народа Большой Земли слиты воедино. И нет, не существует такой силы, которая могла бы разрубить, разорвать эту могущественную связь Большой Земли с ее смелым сыном — Севастополем.
Ник. Атаров
Дуэль (рассказ)
Как всегда, до рассвета Люда Павличенко подкралась по кустарникам к минному полю, проползла по лысинкам, оставленным саперами, и заняла одно из своих гнезд. А потом солнце встало над черными скалами блестящим кругом. Но в низине стоял туман, окопов впереди не видно, и только слышно было, как немцы умываются. В это утро было холодно, времени, пока разойдется туман, много, и Павличенко проползла еще вперед двадцать метров, к большой груде сухих веток, которая давно ее интересовала.
Здесь было одно неудобство: блестящие, мокрые ветки, с которых стекали в этот час дождевые капли, очень пружинили и мешали прицеливаться, но Павличенко добралась локтями до самой земли. Зато здесь было теплее лежать, а когда туман рассеялся, выяснилось и другое: отсюда гораздо шире полоса наблюдения. С горы открывалась изломанная многолинейная даль немецких позиций. Прищурившись, Люда одним взглядом обняла всю дальнюю глубину позиций, и ожидание предстоящей работы заставило ее чуть шевельнуться в ее гнезде, чтобы лучше зарыть локти, удобнее раскинуть ноги.
Каждое утро было важно, добравшись до гнезда, прежде чем вооружиться, оглядеть так, запросто, пустынную на вид и полную тысяч фашистов землю, жизнь войны на этой земле, с ее разнообразными дымками и слабым рисунком колючей проволоки, новые следы немецких инженерных работ.
Она приложила обшитый соломой бинокль к глазам и стала медленно поворачивать его по градусам горизонта. Каждая травинка, попавшая в увеличенный празднично выпуклый мир ее зрения, проплывала минуты три, не меньше, прежде чем исчезнуть. Февральское солнце набирало высоту, согревая снайпера, и с каждым часом меняло картину. Утром Люда отчетливо различала в синей дали только блеск выстрелов. Затем местность потускнела, и южный полдень выделил все зыбучее и легкое: дымки и пар.
Иногда солнце вырывало из тысяч вещей один единственный предмет и делало видным его на несколько секунд. То это была воронка с ее радужным блеском обожженных комьев земли, то развалины известняковой постройки, и они так сверкали на пять километров, как будто кто-то ногтем колупнул и расцарапал под пылью чистый мел.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Но цели не было. Цель может появиться к вечеру, когда оживают окопы. Так Павличенко пролежала восемь часов, не сделав ни одного выстрела. Болела шея. Люде казалось — она плавает над этой окаянной землей в гнезде, укрепленном на ветке огромного, раскачивающегося дерева.
Взглядом Люда ощупала уже сотни сомнительных бугорков, бурьян и ржавые каски и много трупов в их мертвых, неестественных позах. И вдруг… в сухих крючках коряги — живые глазки; они проворно метнулись под рыжими бровками…
И тотчас выстрел ожег Люду; она упала лицом в песок.
"Поспешил", — подумала Павличенко, не шевелясь, выждав все сроки, когда могла почувствовать, что ранена. Нет, пуля только горячо дохнула.
— Запальчивый какой! — тихо сказала она.
Это, наверное, был тот фашистский снайпер, о котором ей говорили, что он третьего дня убил младшего лейтенанта.
Исподволь она приподняла лицо от земли и так с прилипшим к щеке песком всматривалась в немца. Теперь ей не нужен был бинокль. По положению коряги она поняла, что пока лежала ничком, фашист отполз.
Коряга качнулась.
— Горячность! — отметила Люда.
Теперь, хоть голова ее после многих часов напряжения казалась ей сунутой в узкую клетку, Павличенко думала не о том, чтобы уйти от этой вынужденной дуэли, а о том, чтобы навязать свою волю врагу, перехитрить его и, главное, переждать.
После четырех часов дня ветер изменил направление. Люда подсчитала необходимую поправку прицела.
Посвежело. Облака шли со стороны моря, воздух посырел, помутнел. Если бы Люда впервые заметила фашиста сейчас, она бы ошиблась в определении расстояния метров на пятьдесят: сейчас он казался ей дальше.
Враг снова зашевелился. Ему, видно, не хотелось валяться под дождем. Настроение у него испортилось? Или, может быть, он хотел вызвать врага на выстрел?
"А ведь, дурак, старше меня, наверное", — подумала Павличенко.
Дождь начался такой мелкий, что его не слышно было даже снайперам, лежавшим на земле. И все же вскоре затылок Люды стал мокрый, ей сделалось холодно и появилась страшная забота: вдруг зачешутся мокрые руки?
Очень хотелось есть.
Мельчайшая дождевая пыль легла на поля, покрыла каждую слабую былинку и обозначила синеватым блеском минные поля. Теперь Люда легко читала по следам, кто где ходил в эти дни: неровный и грубый лаз, ведущий от колодца к немецким окопам, мелкую побежку автоматчиков, торный накат колес станкового пулемета, след ног сапера, сидевшего ночью на корточках перед ямкой для мины.
А через несколько минут взгляд ее различил и след тяжелого туловища ее противника, как он полз, подкрадываясь к ней, толкая впереди себя маскировочную корягу.
"А ведь и он меня по следу засек!" — мелькнуло в голове Люды. И верно: как только поредела сетка дождя, снова раздался выстрел.
Этот рыжебровый фашист неотступно следил за ней, и, судя по тому, что при нем не было бинокля, Павличенко не была уверена в том, что нет второго немца наблюдателя, который ждет удобной минуты. Вот когда она пожалела, что вышла без напарника: наверное, опять будут «списывать» ее в роте.
Фашист точно умер.
"Вся сила — в терпении!" — ободряла себя Люда.
Никогда еще не испытывала она такой внутренней борьбы — неукротимой воли к действию, заточенной в этой тюрьме ожидания, в ногах и руках, в этом теле, скованном многие часы.
Чего только не передумала Люда в это время, чтобы побороть сонливость: то она подсчитывала черные шрапнельные комочки дыма, медленно исчезающего в легкой растушевке; то вспоминались слова пожилого оружейного мастера, которого почему-то в полку называли "дядей Доброхимом": "Смерть — она неразговорчивая: приходит молча"; то исчезало представление о масштабах местности, и Люда ждала, что выйдет из-за Сапун-горы огромный, как Гулливер, краснофлотец, сверкая пулеметными лентами, сделает шага два-три и сядет на дальние холмы.