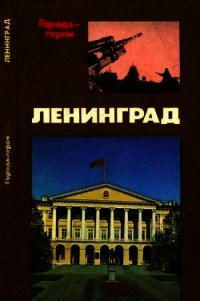Севастополь. Сборник литературно-художественных произведений о героической обороне и освобождении го - Петров Евгений Петрович
Наконец, Люда приказала глазам отдохнуть: перевела взгляд в мир мелких предметов вокруг себя, рассмотрела винты бинокля, скрытые в соломке, комочки глины и крошки сухарей от обеда. Но оба мира — огромный и маленький — сплылись в усталом взгляде, и длинный жучок, висящий на стебельке, показался ей связистом, поправляющим на телефонном столбе провода.
Смеркалось. И в то же время небо серебряно светлело. Облака уходили ввысь и растворялись, а воздух потеплел, и после дождя запах мокрой шинели смешался с чудесным, отдающим теплотою кофе запахом взопревшей земли.
В окопах у нас и у них началось вечернее оживление. Два долговязых гитлеровца карабкались с ведрами к колодцу, но нельзя было и подумать снять одного из них.
"Дождусь ночи, ему невтерпеж станет, тут он у меня и отнесет повестку!" со злобой подумала Люда и, окончательно смирившись, стала ждать.
Луна сначала поднималась очень быстро, и вся земля построилась из черных теней и яркого блеска битого стекла, дождевых капель, плетеных жестяных жаровен, оставшихся от зимы. В этот час немец мог безнаказанно отползти в кусты. Люда не была уверена в том, что не просторожила его. Ей и себя было трудно сторожить. Но фашист не собирался уходить и даже запальчиво показал спину на мгновение, — видать, устраивался поудобнее. И хотя Люда не выстрелила, но она успокоилась.
"Вот он, мой жданный!" — усмехнулась она.
На снайперской позиции она никогда не вспоминала о мирной жизни, о матери, о брате, как будто их и не было вовсе: она боялась, что если вспоминать обо всем, то воевать нельзя будет.
Но сейчас она больше всего боялась уснуть.
"А там, позади, хорошо зевают часовые", — подумала она.
Теперь луна повисла в небе, маленькая и очень белая.
Чтобы не заснуть, Люда вспоминала обо всем, что позади: там пулеметчики в боевом охранении покуривают, солдатские сказки рассказывают. А дальше где-то и наша землянка. На лампочке стекло подклеено. А где командир?
В эту минуту командир роты, встревоженный не на шутку, сидя в переднем окопе, вслушивался в каждый шорох. Шла поздняя позиционная ночь, когда на короткий час фронт засыпает в тысячах удобных и неудобных землянок, в змеистых окопах, в сырых блиндажах, на низких нарах, на полотняных раскладушках и просто на шинелях и когда бодрствуют только немногие, те, кому положено: дежурные телефонисты, наблюдатели, разведчики, часовые.
Вдали, за Северной бухтой, не смолкала артиллерийская канонада. Потом пролетели наши ночные бомбардировщики, и скоро злобно, скороговоркой, заговорили вражеские зенитки. Пятнадцать минут выкрикивала какие-то угрозы фашистская звуковещательная станция, пока ее не прихлопнула наша батарея. Потом был час полной тишины, когда Люде было слышно, как кашляет часовой вдали и даже как стучит где-то далеко позади, на командном пункте, пишущая машинка.
Ей стало радостно на минуту при мысли о том, сколько хороших людей живет сейчас позади нее. Там телефонисты дуют в трубки. Повозки едут по дорогам.
Чтобы не спать, она напрягала память, припоминая… Однажды во вторых эшелонах военврач третьего ранга остановил ее на дороге. "Что, далеко передовые? Можно пойти дальше?" Она рассмеялась и ответила: "Передовые? Там девочка ягодой торгует, только не объедайтесь…" И верно, девочка возле огневых позиций ночью, когда оживают тылы, выходит и сидит с корзиночкой, угощая бойцов сушеным кизилом…
Гитлеровец заворошился в своем гнезде. И палец Люды на спусковом крючке сразу проснулся, поднажал слегка. "Терпи, казак…"
И вдруг явилась новая мысль: что если немец тоже думает сейчас о том, что позади него?.. Чтобы тоже не спать…
Расклеивая веки, освобождая мышцы шеи и рук, меняя положенье ног, Людмила еще часа два, а может быть больше, вспоминала Джанкой, Одессу, Балту.
Все это дымилось, пылало, стонало: "Братцы, спасите!", как маленький красноармеец, которого она перевязывала в овраге, где были желтые ирисы… Все это пахло дымом, пестрело кровью в ее памяти, и снова желтое облако пыли вставало над Одессой, как тогда, когда санитарный транспорт поворачивался и выходил из бухты…
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Шел двадцать пятый час как Люда лежала в маленьком каменном гнезде, а фашист — за корягой.
Светало. Ворона прошла вдали по камням. Где-то в стороне немцев вдруг раздался протяжный петушиный крик. Мина сдуру шарахнула между Людой и фашистом. Заговорили батареи…
И скоро солнце просушило шинель, снова нагрело камни. Так потянуло расстегнуться, положить голову на руки и заснуть тут же, не сходя с места…
…Или рубить эту цепь! Она не двадцать пять часов, а целые годы знала и ненавидела этого человека с его выгоревшими бровками и быстро-бегающими глазками. И она была убеждена в том, что он ненавидит ее еще яростнее за то, что она баба, "das Weib"…
А день разыгрывался еще теплее вчерашнего. После дождя пошли в рост мелкие рыже-зеленые травинки. На изрытой, прожженной земле тихо шевелилась ранняя севастопольская весна. И вдруг фашист пополз.
Люда так привыкла, что он лежит ничком и не дышит, что теперь его грубое движение, суета ползущих ног и шорох коряги — все это ошеломило ее. Она не стала стрелять, а только взглядом стерегла его длинную спину, волнисто ползущую за корягой.
— Он просто не выдержал!
Еще минуту Люда опасалась, что это ловушка, маневр, что он не хочет уйти. Нет, он полз с такой же торопливой растратой всех сил, с какой, задыхаясь, подплывает к берегу неумелый, уже хлебнувший воды пловец.
Вот снова метнулись под корягой проворные глазки. Палец Люды слегка нажал на крючок, еще мгновение — в крест! огонь! — и взбугрилась спина и так осталась — неряшливо открытая навсегда.
Разрыв! Разрыв! Значит, они следили в десятки биноклей. Разрыв! И под харкающий кашель рвущихся немецких мин Люда побежала к своим окопам. Ноги служили плохо. Она спотыкалась и даже упала на минном поле, когда заработали сразу три вражеских пулемета.
— Людка-а!.. Бери правее!..
Это кричали наши. Вот высоко полетели снаряды, — это к немцам. Огнем и дымом затянуло весеннее поле…
В окопе Павличенко сняла шинель, а бойцы стягивали с нее сапоги и разматывали портянки. Ей дали водки из фляги. Командир роты, усмехнувшись, спросил, отбирая у нее флягу:
— Ну как фашисты, жалуются?
И она ответила ему в тон:
— Есть жалобы, товарищ лейтенант.
Евгений Юнга
У Мекензиевых гор
Наступило время предотходной суеты.
Комендант порта попрощался и ушел на причал к транспорту, а командир корабля занялся приготовлениями к выходу в море: вызвал помощника, приказал послать за командирами сторожевых катеров, назначенных для сопровождения транспорта, в ожидании их переговорил с корабельным артиллеристом.
— Устраивайтесь, где понравится, — разрешил он мне. — Хотите — здесь, а можете занять мою каюту. Пока в море, в ней не бываю. Если понадоблюсь, прошу на мостик. Через десять минут снимаемся.
Он облачился в капковый бушлат и, сопровождаемый командирами катеров, покинул кают-компанию.
Спустя минуту в просвете двери выросла плотная фигура незнакомого мне человека в черной флотской шинели. В одной руке он держал тощий рюкзак, в другой массивную палку с инкрустациями из меди.
— Ага, имеется попутчик, — весело проговорил вошедший и, положив на диван вещи, представился: — Инженер-полковник Лебедь. А вы кто?
Я объяснил.
В кают-компанию долетел перезвон машинного телеграфа. Послышались быстрые шаги многих людей, стук стальных тросов, сброшенных с причальных тумб на палубу, ритмичный гул машины, протяжный скрип деревянных свай, прижатых бортом корабля.
— Уже? — изумился полковник. — Стало быть, чуть не опоздал. Удачно получилось.
Он потер руки, словно намыливая их, прошелся, похрамывая, по кают-компании и остановился возле иллюминатора.
— Вытягиваемся на рейд. Эх, и вид у Туапсе! — помрачнев, сказал он. — Вот так же изуродованы Севастополь, Керчь, Феодосия, Новороссийск.