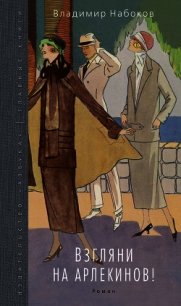Набоков в Америке. По дороге к «Лолите» - Роупер Роберт (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Есть в сыне-американце что-то, что настораживает Веру, – пожалуй, даже несколько черт его характера. “Твой отец, который никогда никому не отказывает32, – как описывает Вера Владимира, – ждет от тебя”33 хорошей работы. Похоже, возможность отказа вообще не рассматривалась. Когда Дмитрий не успел сделать перевод к оговоренному сроку, его родители доделали работу сами. Год спустя, летом 1956 года, Вера его предупреждала:
Даже думать не смей о гонках и прочем. Вспомни сам, как ты в том году распоряжался деньгами: ты получил (и спустил в трубу) весьма круглую сумму (1000 долларов) от Doubleday, причем заработал из нее в лучшем случае треть, а то и меньше; вдобавок ты “взял взаймы” у отца солидную сумму и до сих пор не вернул; ты брал кредиты в банке; все, что заработал, ты потратил до последнего цента; ты вечно сидел без денег… Вместо того чтобы хорошенько отдохнуть, мы с твоим отцом все лето переводили “Героя” и будем биться над ним до конца отпуска. Разве это справедливо? Подумай об этом, сынок, подумай хорошенько, пора уже повзрослеть!34
Дмитрий чем-то напоминал Жабу – не диктатора из “Под знаком незаконнорожденных”, а героя “Ветра в ивах”. У него тоже была “страсть к движущимся предметам”35, причем “намного сильнее”•, чем у других детей, как писала Вера. Он вел себя так, словно ему жить надоело. Во многих произведениях Набокова, написанных в Америке, повторяется мотив смерти ребенка – не только в “Лолите” и “Под знаком незаконнорожденных”, но и в рассказах (“Ланс”, “Знаки и символы”). Поэма “Бледное пламя” в одноименном романе также посвящена в основном смерти дочери.
Сильвия Беркман, приятельница Набокова по Уэлсли, навестила их той весной, когда Набоков читал курс в Гарварде [52]. Она была одной из ближайших подруг Веры по переписке и автором исследования, посвященного творчеству Кэтрин Мэнсфилд. В Уэлсли Беркман и Набоков не всегда ладили36: ее утомляла его веселость. Но к середине 1950-х годов Беркман стала ярой его поклонницей и в некотором смысле протеже. “Сильвия – одна из самых разумных и утонченных американских писательниц37, – так написал в Университет штата Айова Владимир (или Вера), когда Беркман подала заявку на курс писательского мастерства в 1955 году. – Я думаю, что у нее большое будущее. Ее творческий метод отличается вниманием к стилю и живописным деталям и требует досуга”, то есть оплачиваемого отпуска в Уэлсли.
Набоков предложил кандидатуру Беркман в качестве потенциальной стипендиатки фонда Гуггенхайма38. Когда вышла книга ее рассказов, он уговорил издателя, который выпускал и набоковские романы, поддержать писательницу39. Беркман перечитала все, что когда-либо выходило у Набокова, и хотя ее восторги можно списать на соображения личной выгоды, она действительно непритворно им восхищалась40.
Так, о “Пнине” Беркман писала: “Я думаю, отдельные эпизоды превосходны – все проникнуто таким мягким и мудрым юмором и терпким остроумием, что картина получается как живая… с неповторимым привкусом грусти”41. В особенности ей понравилось то, что “Пнин” – роман об университетской среде. “Удивительно совершенное изображение колледжа («Рощи Академии» меркнут по сравнению с ним), не только беспощадное в своей точности, но и гениальное: оно заставляет задуматься о том, что у зануд, быть может, самые благие намерения”.
Беркман по возможности следовала примеру мастера. Провела лето в Стэнфорде, общаясь с теми же людьми, с которыми Набоковы подружились в 1940-х42. Путешествовала по Америке, как Набоков, но не на машине, а на междугородном автобусе, побывала на Диком Западе, превратив эту поездку в настоящее приключение: “Сперва на юг и юго-запад, потом на северо-запад тихоокеанского побережья и на юг через всю страну в Колорадо”43. Останавливалась в основном в дешевых мотелях. В то время “Лолита” как раз вышла и в Америке. В конце 1940-х и в 1950-е годы был популярен жанр “романа дороги”. Вне зависимости от того, читала ли Беркман подобные произведения, путешествовала по стране и открывала ее для себя в духе “Аэрокондиционированного кошмара” Генри Миллера (1947), “Америки день за днем” Симоны де Бовуар (1948), “В дороге” (1957) и “Бродяг дхармы” (1958) Джека Керуака, не говоря уже об эпопее Гумберта Гумберта. Однако, разумеется, Беркман не могла перенять у Набокова все. “Чему я лучше всего научилась у него, – писала Сильвия Вере, – так это ясной, концентрированной скрупулезности, умению подобрать не простое нейтральное слово, а такое, которое задевает за живое”44. Она и сама могла писать с удивительной точностью, раскрывая смутные ощущения, но, как и прочие талантливые последователи психологического реализма, едва ли могла брать Набокова за образец45. Его пример вел к отчаянию:
Я с удовольствием прочла тонкие замечания о “Пнине” в английских газетах и рецензиях… “Лолиту” я считаю самым талантливым и оригинальным романом века. Насколько я знаю, ее часто комментировали в периодике и ежеквартальных журналах: ко всему сказанному могу присовокупить лишь собственное изумленное восхищение и невероятное наслаждение. Как и зачем после такого вообще браться за перо? Этот роман хочется перечитывать снова и снова, что для меня – основное мерило гениального произведения46.
Набоков был гений, и его смелость писать, то есть – в его случае – отважно заниматься самоанализом вопреки большевикам, нацистам и прочим стремящимся подчинить искусство собственным целям, побуждала следовать его примеру. Однако скрупулезность и le mot juste [53] в его случае только полдела. В знаменитом письме Уилсону, в котором Набоков говорит об “особых деталях, уникальных образах, без которых… нет искусства”47, он объясняет не собственные эстетические принципы, а лишь формулирует непременное условие талантливого произведения. Одной точности мало: кроме нее, есть еще много всего. Реальность в его описаниях вибрирует, точно сосулька, по которой ударили тростью. Взять хотя бы “Смех в темноте”:
Оно было действительно очень голубое: пурпурно-синее издалека, переливчато-синее, если подойдешь к нему ближе, алмазно-синее на блестящей крутизне волны. Она поднималась, пенясь, стремительно неслась к берегу, вдруг приостанавливалась и, отступая, оставляла за собой гладкое зеркало на мокром песке, на которое тут же набегала уже следующая волна. Волосатый мужчина в оранжевых трусах стоял у самой воды и протирал очки.
Или, к примеру (оттуда же): “Откуда ни возьмись прилетел большой, разноцветный мяч и со звоном заскакал по песку”.
Или: “Вода мокрая, мокрая! – крикнула она и побежала вперед, навстречу прибою, вихляя бедрами и раскинув руки, проталкиваясь сквозь едва доходящую до колен воду”.
В “Лолите”:
Под каким-то крайне прозрачным предлогом… мы удалились из кафе на пляж, где нашли наконец уединенное место, и там, в лиловой тени розовых скал, образовавших нечто вроде пещеры, мы наскоро обменялись жадными ласками, единственными свидетелями коих были оброненные кем-то темные очки. Я стоял на коленях и уже готовился овладеть моей душенькой, как внезапно двое бородатых купальщиков – морской дед и его братец – вышли из воды с возгласами непристойного одобрения, а четыре месяца спустя она умерла от тифа на острове Корфу.
Собственно, эта вибрация происходит исключительно в сознании восприимчивого к подобным явлениям читателя. Автор подходит слишком близко и произносит ровно те слова, которые будут поняты. Они могут быть приятными или смешными, но совершенно необязательно “эстетически прекрасными”: зачастую они очень просты. Они заставляют задуматься, причем мысль сопровождается ощущением, будто читатель уже знал это, видел нечто подобное ранее, просто не удосужился оформить чувства в слова.