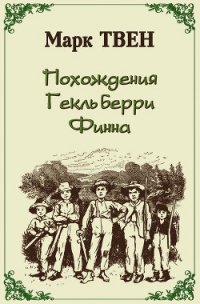Безбилетный пассажир - Данелия Георгий Николаевич (лучшие книги TXT) 📗
А раньше в доме Верико жили Верико, дядя Миша Чиаурели, их дети Рамаз и Софико, Джиу — сын умершего старшего маминого брата, Отар — сын дяди Миши Чиаурели от первого брака, старшая сестра дяди Миши — толстая Наташа, двоюродная сестра дяди Миши Анико, домработница Нюра, бонна Софико по кличке Ляпупедор и поклонница Верико хромая Тина.
Бабушка (мама Верико и моей мамы), которую все звали Бута, жила отдельно, но когда в сорок втором году упала и сломала бедро, тоже лежала в доме Верико. И часто бывали и другие родственники: средний брат мамы Леван, его сын Тимур, мой ровесник, его дочка Кети — ровесница Софико, племянники бабушки Буты братья Иващенко — Жоржик и Игрунчик с Олежкой. И Мишурка — актер кукольного театра. Еще в доме не ночевал, но постоянно присутствовал шофер Чиаурели Михаил Заргарьян по прозвищу Профессор. И каждый вечер приходили в гости актеры из театра Верико, работники киностудии и дальние родственники, которые во время войны из-за комендантского часа оставались ночевать…
В старости все видится, как в бинокль, — чем дальше, тем лучше…
До войны утро в Тбилиси начиналось с криков:
— Мацон, молоко-о-оо! Мацон, молоко-о-о!..
Это крестьяне из ближайших деревень привезли товар. На продавцах были подпоясанные сатиновые рубахи, сатиновые брюки, заправленные в толстые шерстяные носки, на ногах — каломани (лапти из сыромятной кожи), на голове — кахетинская шапочка, а в руках — палка, чтобы погонять осла (товар крестьяне возили на осликах).
После «мацон, молока» появлялся следующий и кричал:
— Яйца! Яйца!
Какой-нибудь остряк обязательно кричал в ответ:
— Что болит?
— Яйца! Яйца!
Продавцы русский знали плохо.
Последним приходил торговец самоварным песком (для чего самоварный песок — я до сих пор не знаю, но один раз видел, что кто-то его купил).
Домработница Нюра, маленькая, сухонькая пожилая женщина в байковом халате, с утра стояла у ворот в наш дворик и, подбоченясь, поджидала продавцов.
У одного из трех продавцов (а иногда и у всех сразу) ослики проявляли свой ослиный характер, ни с того ни с сего останавливались и не хотели иди дальше. Тогда хозяин начинал материть упрямца и лупить палкой. Нюра только этого и дожидалась: она налетала на продавца и с криками: «Живодер, тебя бы так!» — принималась отнимать у него палку. Тут же со двора на помощь Нюре выбегал Бутхуз, свирепо лаял, подпрыгивал и щелкал зубами перед носом несчастного. Но не кусался (кусаться ему Нюра не разрешала). Потом выбегали соседи и отдирали Нюру от продавца. А продавец каждый раз грозил, что если эту дуру и собаку не посадят на цепь, он больше в наш переулок не придет. Но приходил — коммерция есть коммерция. И на следующий день все повторялось…
Чиклик и Казбек. Во время войны Верико с гастролей привозила продукты: кукурузную муку, масло, сыр… А из Зугдиди привезла живого козленка.
С козленком я подружился. Он был общительный, озорной и ласковый. Ходил за мной по всему дому, смешно цокая копытцами, а когда я во дворе играл в футбол, он тоже пытался боднуть мяч. И спать козленок ложился вместе со мной. Я назвал его Чиклик — как моего любимого игрушечного тигренка, который остался в Москве.
А еще мы вместе с Чикликом читали. У Верико была хорошая театральная библиотека, и в одиннадцать лет я уже начал читать Мольера и Шекспира. Особенно мне нравилась «Двенадцатая ночь». Читал я на тахте в зале: лежал на животе, опершись на локти, а тяжелый том Шекспира лежал передо мной. Чиклик устраивался на тахте рядом.
А к празднику трудящихся Первому мая страстный поклонник Верико милиционер Гамлет Мамия привел во двор барана и сказал Нюре: «Это для Верико. Пусть кушает на здоровье!»
Баран был крупный, с мощными рогами, и мы назвали его Казбек.
Казбека загнали в подвал, а дверь запереть забыли. Баран вышел, — а мы с Чикликом в это время во дворе играли в мяч. Казбек увидел Чиклика и влюбился в него. Когда мы пошли в дом, Казбек последовал за нами. Козленка в доме еще терпели, а барана Верико велела снова загнать в подвал и запереть.
Заперли. Мы с Чикликом пошли читать. Расположились на тахте, лежим, читаем. Слышу: удар где-то внизу, цокот — и на нас сверху наваливается что-то очень тяжелое и горячее. Это Казбек выбил дверь в подвале и прибежал к своему приятелю Чиклику.
Чиаурели был депутат, и у него был депутатский паек, но народу в доме было столько, что продуктов все равно не хватало. Но всем было ясно, что ни Казбека, ни Чиклика никто резать и есть не будет. Их отвезли в Дигоми (деревня недалеко от Тбилиси, откуда родом Михаил Чиаурели) и отдали в стадо.
Когда мы с мамой приехали в Дигоми менять вещи на продукты, я пошел навестить Чиклика. И увидел такую сцену: пасутся на травке бараны, Чиклик подходит к одному из них и начинает задираться, бодает его своими рожками. Баран терпит, терпит, а потом решает наказать нахала. Занимает боевую позицию… И тут из-за валуна выскакивает Казбек, мчится стрелой к обидчику и с разбега долбает того рогами в бок. Баран катится по траве. А после — Казбек возвращается за валун, а Чиклик идет задираться к следующему барану.
— Так весь день развлекаются, мерзавцы, — сообщил пастух.
А я подумал, что рановато я моему приятелю Чиклику Шекспира давал. В его возрасте нужно читать «Муху-цокотуху».
Шофер дяди Миши Чиаурели Профессор всегда выглядел элегантно, почти как сам дядя Миша, и все время был рядом с хозяином. И когда в Тбилиси приезжали именитые гости (Джон Стейнбек, сын Черчилля, Назым Хикмет), дядя Миша встречал их вместе с Профессором. Так и представлял его гостям:
— Познакомьтесь, это Профессор.
И гости уважительно именовали Михаила Заргарьяна «господин профессор», и никак не могли понять, что это «господин профессор» все время бережно держит в левой руке. А это была крышка от радиатора, Профессор таскал ее с собой: боялся, что сопрут.
Однажды (когда Чиаурели уже не стало) я наблюдал такую сценку. Девять тридцать утра. По зале с антикварной мебелью, по сверкающему фигурному паркету Профессор катит колесо. Открывает дверь в спальню, закатывает туда покрышку и зовет:
— Верико! А Верико!
— Что? — не открывая глаз, сонно спрашивает Верико. Как всякая театральная актриса, она поздно ложится и поздно встает.
— Открой глаза! Посмотри!
Верико приоткрывает один глаз.
— Ну?
— С такой покрышкой можно ездить? Можно?!
— Хороший шофер с такой покрышкой может ездить, а у говновоза любая лопнет, — бурчит Верико.
— Вера Ивлиановна, я вас вожу, — напоминает Профессор.
Верико открывает оба глаза.
— Господи, чем я перед тобой провинилась, что ты окружил меня такими идиотами!..
И далее она минут десять с трагедийным надрывом сетует на судьбу. Верико Анджапаридзе критики включали в десятку лучших трагедийных актрис ХХ века, и, когда она с таким пафосом говорила на сцене, зал рыдал. Но Профессор был человеком дела и эмоциям не поддавался. Когда Верико утомилась и замолчала, он спокойно говорит:
— Деньги давай.
Верико тяжело вздыхает, переворачивается на другой бок и бормочет:
— В тумбочке посмотри…
А когда у Верико уже не было средств содержать шофера с машиной, Профессор переквалифицировался в футбольные фотографы и прославился больше, чем Чиаурели, и даже больше, чем Верико и Софико. Прославился почти как Котэ Махарадзе. Если в ворота тбилисского «Динамо» забивали мяч, весь стадион, шестьдесят тысяч болельщиков орали: «Профессор, не снимай!!!»
Бабушка Бута жила отдельно — у нее была своя комната. Когда я три недели прогуливал школу (почему — я рассказал выше), я в девять утра являлся в гости к Буте. Бута усаживала меня в кресло, варила кофе, набивала табаком папиросы (Бута курила, и мама курила, и папа курил, и Верико курила, и Отар курил, и Рамаз курил, и Нюра курила, и я втихомолку курил с одиннадцати лет — только Джиу и собака Бутхуз не курили) и рассказывала о прежней жизни в Кутаиси, о дворянском собрании, о балах (бабушка была урожденная княжна Месхи). Ровно в час, когда заканчивались уроки, я забирал свой портфель и шел домой, каждый раз прихватывая у Буты пару папирос. А Бута делала вид, что не замечает, — чтобы не придавать моему курению официального статуса.