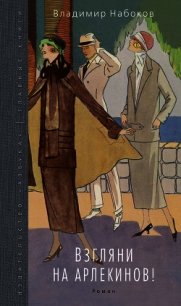Набоков в Америке. По дороге к «Лолите» - Роупер Роберт (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT, .FB2) 📗
Еще до того, как Набоков стал называть Алтаграцию “миссис де Жаннелли”, он писал ей в манере, к которой почти никогда не прибегал в письмах к обычным литературным агентам:
Большое спасибо за ваше милое длинное письмо от 12 октября. Я прекрасно понимаю, что вы имели в виду под “старомодными темами”… Боюсь, что в Европе увлечение “сверхсовременным” уже отошло! В России об этом много говорили перед самой революцией… изображая “аморальную” жизнь, о которой вы так очаровательно отзываетесь. Забавно, но меня в американской культуре привлекает именно ее старосветскость, старомодность, которую не затмевает никакой блеск, ни бурная ночная жизнь, ни современные уборные… Когда в ваших обзорах мне попадаются “смелые” статьи – в прошлом номере Mercury была заметка о презервативах, – я буквально слышу, как ваши блестящие модернисты аплодируют собственной дерзости24.
Так что от авангарда Америка была далека: по крайней мере, на это надеялся Набоков. Он и сам не причислял себя к писателям-авангардистам: он был новатор, не такой, как все, со своими стилистическими приемами и формальными новшествами, но чтобы эти стилистические трюки сработали, необходим был заурядный фон. В этом письме Набоков рисует Америку как своего рода стерильную фантасмагорию, которая лишь отчасти строится на “чем-то старомодном”, Amérique profonde консервативного или даже реакционного склада. И все же Америка не напоминала ту примитивную глушь, населенную узколобыми обывателями, какой ее изображали в журнале American Mercury, основанном Г. Л. Менкеном и Джорджем Джином Нейтаном25, в особенности в сатирическом разделе “Американа”. “Бастер Браун вырос, – пишет Набоков Жаннелли (пусть даже отчасти выдавая желаемое за действительное), – и несмотря на очаровательную юношескую наивность, его ждет блестящее интеллектуальное будущее, которое, быть может, превзойдет самые смелые его мечты”.
Глава 2
Набоков хоть и интересовался Америкой – читал американские журналы, писал друзьям, обосновавшимся в США, обменивался впечатлениями с литературным агентом, – все же склонялся к тому, чтобы перебраться в Англию. Там он учился (в Кембридже), там у него оставались кое-какие связи. Его бы устроила должность преподавателя славянской литературы (или что-нибудь в этом роде) в альма-матер или любом другом университете1. Набоков принадлежал к тем писателям, кому по нраву научная среда. Но сколько он ни ездил в Англию, как ни пытался задействовать связи, ничего не выходило. В период с 1937 по 1940 год, начавшийся с бегства из Берлина и скандального романа с Гуаданини, чета Набоковых жила очень бедно: и Владимир, и Вера много работали, чтобы заплатить за квартиру, но при этом надеялись, что рано или поздно ситуация переменится, изо всех сил удерживали потрепанное знамя на ветру перемен и ждали известий хоть откуда-нибудь.
Почти год Набоковы провели в Ментоне, к востоку от Канн, затем переехали в деревушку Ле-Мулине, где писатель гонялся за бабочками по скалистым склонам и на высоте четыре тысячи футов над уровнем моря поймал экземпляр неизвестного прежде вида: в статье, опубликованной впоследствии в Америке, Набоков назовет свою находку Plebeius (Lysandra) cormion Nabokov2. Жили Набоковы как никогда бедно3. В 1916 году Владимир унаследовал от дяди по матери имение в две тысячи акров плюс состояние, которое равнялось 6 миллионам долларов (более 140 миллионов долларов в 2014 году)4. Целый год Набоков был вполне состоятельным молодым человеком, но настал октябрь 1917 года, и, как большинство его знакомых, писатель превратился в эмигранта очень скромного достатка, а к середине 1930-х годов его доходы уже и скромными нельзя было назвать.
Из Ле-Мулине семья переехала в Антиб, а в октябре 1938-го, в поисках лучшей доли, – в Париж. Набоков крутился как мог: занимал у друзей, давал уроки английского, а один раз получил двадцать пять тысяч франков от Сергея Рахманинова, которого тронуло бедственное положение молодого писателя. Набоков даже написал в советский Литературный фонд (который был учрежден в 1859 году как “Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым”, но после 1917 года прекратил существование): теперь у него был филиал в Америке5. Писателю прислали целых двадцать долларов.
Рахманинов в революцию, как и многие другие, потерял все и вынужден был бежать с женой и дочерьми в Финляндию – зимой, в открытых санях. Рахманинов перепрыгнул через Европу и очутился в сонной добросердечной Америке, где, как он рассчитывал, мог добиться серьезного успеха. Он обзавелся превосходным импресарио (Чарльз Эллис), к 1919 году уже вовсю гастролировал и уверенно двигался к цели: стать одним из самых уважаемых и высокооплачиваемых классических музыкантов ХХ века. Музыка Набокова интересовала мало – как классическая, так и любая другая, но он знал эту историю (как и все в эмиграции) и, можно сказать, как писатель двигался по той же траектории, что и Рахманинов, хотя и с остановками. Рахманинов, как и Набоков, всегда тепло относился к Америке, где впервые побывал еще в 1909 году, и тоже отличался задумчивостью, которая сочеталась с безрассудной смелостью и любовью к приключениям, – к примеру, очень любил гонять на мощных автомобилях.
Много лет спустя Вера вспоминала, что в определенный момент они окончательно решили перебраться в Америку, и случилось это как раз перед 3 сентября 1939 года, когда Франция и Англия вступили в войну с Германией. Ее биограф ставит это под сомнение – дескать, “положение их было настолько непрочно, что любой порыв ветра мог сорвать их с места и унести в любом направлении”. Во Франции рассчитывать было особо не на что: разрешение на работу получить было трудно, а вскоре страну оккупировала Германия. По-французски Набоков говорил свободно, словарный запас его был богат, но английский писатель знал куда лучше и, возможно, в силу врожденной восприимчивости чувствовал родство с англоязычными авторами. Однако в Англии для него места не нашлось: все двери по-прежнему были закрыты.
В Ментоне Набокова навестил его двоюродный брат Николай. Он теперь преподавал музыку в Уэллс-колледже в далеком городке Орора, штат Нью-Йорк. В Новом Свете Николай устроился на удивление удачно: в 1934 году в Филадельфии состоялась премьера балета “Юнион Пасифик”, для которого он написал музыку на либретто Арчибальда Маклиша, в постановке “Русского балета Монте-Карло”, и вскоре этот “первый американский балет” прогремел на весь свет, став самой популярной постановкой “Русского балета” середины тридцатых годов. Значит, в Америке можно добиться успеха! Николай написал и другие произведения: премьера балета “Жизнь Полишинеля” состоялась в том же 1934 году в постановке парижского театра Опера. К тому же для потрепанного жизнью эмигранта у Николая были на удивление блестящие связи: он дружил не только с Маклишем, Леонидом Мясиным (хореографом “Юнион Пасифик”) и Солом Юроком (продюсером-импресарио), но и с Джорджем Баланчиным, Игорем Стравинским, Вирджилом Томсоном, Джорджем Гершвином, Анри Картье-Брессоном и многими другими знаменитостями.
Обаятельный высокий красавец, знавший, по слухам, двенадцать языков, “преувеличенно эмоциональный, видный и вечно опаздывавший”6, Николай подружился с Эдмундом Уилсоном, который к концу тридцатых годов считался самым авторитетным литературным критиком в Соединенных Штатах. О чем кузены говорили в Ментоне, мы уже не узнаем: записей не осталось. Но успех Николая не мог не заинтересовать Набокова [8].
Владимир в отличие от брата был человеком несветским. Нет, он отличался ничуть не меньшим обаянием и в юности без тени смущения пользовался помощью сильных мира сего – и не только своего знаменитого отца-издателя7, но и других. Но Владимир был художником до мозга костей. Он с удовольствием общался со знаменитостями – например, со спонсором Джойса и первым издателем “Улисса”; в годы, проведенные в Берлине и Париже, водил знакомство со многими известными людьми, в том числе с самим Джойсом: тот посетил чтения, которые Набоков устраивал в феврале 1937 года, а в феврале 1939 года писатели оказались вместе на одном званом ужине в Париже. В тот вечер Набоков, который всегда отличался остроумием, а порой и вовсе затмевал всех обаянием, был сдержан, и хозяйка вечера, Люси Леон Ноэль, впоследствии предположила, что, возможно, присутствие великого писателя повергло его в трепет. Прочитав ее отзыв, Набоков заметил: “В рассказе об обеде с Джеймсом Джойсом в Париже меня умилило, как меня изобличают в застенчивости (после стольких газетных упреков в «высокомерии»); однако верно ли ее впечатление? Она изображает меня робким молодым художником; на самом деле мне было сорок, и я достаточно ясно представлял себе свой вклад в русскую словесность, чтобы не испытывать смущения в присутствии любого современного писателя”8.