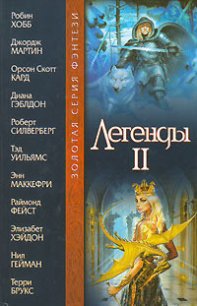Пилсудский (Легенды и факты) - Наленч Дарья (бесплатные книги полный формат txt) 📗
— Мороз, пан Маршал, — сказал я.
Пилсудский очнулся от задумчивости.
— Хорошо, хорошо, — сказал он и склонился над журналами.
До февраля здоровье Пилсудского давало, правда, иногда сбои, но не настолько, чтобы вызывать в семье или ближайшем окружении опасения. Болел гриппом, простужался, страдал от кашля, но из всех этих недугов он всегда выходил победителем. И только 1935 год начался под плохой звездой. Лихорадочные состояния случались все чаще, и все заметнее проявлялось ослабление всего организма. Доктор Войчиньский делал, что мог, чтобы добиться согласия на проведение консилиума, но безрезультатно. Несмотря на недомогания, Маршал работал почти нормально: принимал людей, выезжал в Вильно…
23 февраля снова выехал в Вильно, а я на этот раз остался в Варшаве.
После его возвращения я около полуночи явился к Маршалу за распоряжениями на следующий день. В Бельведере было тихо и сонно. Как всегда, без стука вошел в угловую комнату, где на диване за овальным столиком сидел Пилсудский. Для него полночь была ранним временем, и я знал, что застану его бодрствующим. В комнате было светло, горело как минимум с пятьсот электрических свечей. Маршал не читал и не раскладывал пасьянса. Сидел, опершись руками о стол, и курил.
— Добрый вечер, — сказал я.
Однако вместо обычного «добрый вечер» услышал фразу, которая показалась мне тогда маловажной, но значение которой я оценил позже.
— Меня вырвало, — промолвил Пилсудский.
До февраля 1935 года я не интересовался такой опасной болезнью, как рак желудка, не знал ее симптомов. Поэтому сказал:
— Наверное, съели что-нибудь недоброкачественное в Вильно или в поезде. Надо принять таблетку.
Пилсудский внимательно посмотрел на меня:
— Думаете, из-за желудка?
Я не понял его вопроса. Для меня все было ясным.
— Доктор из меня неважный, может, позвать Войчиньского?
— Не надо.
Маршал взял у меня иллюстрированные журналы и начал просматривать их. Но определенная тревога, которую я уловил, когда Пилсудский говорил о тошноте, посеяла во мне зерна беспокойства. Я начал вспоминать состояние его здоровья в разное время.
Уже в январе было два приступа боли. Позднее появилась рвота. Все это Пилсудский приписывал расстройству желудочно-кишечного тракта и начал придерживаться диеты. Вначале отказался от трудноперевариваемых блюд, потом стал ограничивать порции, пока наконец не перешел на лечебное голодание. Доктор Войчиньский старался убедить Маршала, что голодание не только не устранит источники страданий, но серьезно ослабит его организм, но тот не хотел его слушать. Тогда доктор Войчиньский попросил меня объяснить Пилсудскому, что тошнота и рвота вызваны не желудком, а печенью.
Выбрав момент, я направился к нему и сказал:
— Пан Маршал, кто знает, правильный ли путь это голодание?
Пилсудский как раз совершал свою ежедневную утреннюю прогулку по комнате. Услышав мои слова, остановился и недружелюбно посмотрел на меня.
— Ишь, умник нашелся, — промолвил он и опять зашагал по комнате.
— Бывает так, — продолжал я излагать мысли доктора Войчиньского, — что даже при здоровом желудке…
Пилсудский прервал прогулку и уселся в кресло.
— Вы же не врач, — сказал он, — и не имеете права заниматься моим здоровьем. А впрочем, я сам себя лечу, не нуждаюсь в этих негодяях.
О врачах у Маршала было вполне определенное мнение.
— При болезнях печени, пан Маршал, симптомы…
Услышав слово «печень», Пилсудский возмутился.
— Докторский агитатор. Будет внушать мне болезнь печени. Это наверняка выдумка Войчиньского. У самого больная печень, хочет, чтобы и у меня было то же самое. Убирайтесь с такими идеями в Америку или Сибирь. Не хочу слышать об этом. Понимаете?!
И Пилсудский завершил разговор парой крепких выражений. Моя миссия провалилась.
Шли дни. Маршал перешел на еще более строгую диету. Я с испугом смотрел на его прогрессирующее истощение и слабость. Он страшно похудел.
В применении собственного метода лечения Пилсудский проявил невероятную настойчивость и решительность. Дни проходили за днями, недели за неделями, а он не прерывал своей полуголодовки. Его метод принес вначале определенный успех. Тошнота появлялась редко, боли тоже. Росла только слабость. Маршал начал постепенно сокращать любые физические усилия. Ограничил, а затем и совсем отказался от прогулок по своему кабинету, все реже заглядывал в мою комнату, просил других раскладывать за него пасьянс.
Когда 19 марта выезжал последний раз в Вильно, был уже очень слабым. Однако по-прежнему скрывал свое состояние от людей. Не выносил жалости, сетований. В то время, то есть в марте, работал очень интенсивно. Принимал многих людей, проводил совещания. Все эти визиты Пилсудский назначал на то время, когда хорошо себя чувствовал. Принимая гостей, сидел удобно в кресле, курил и оживленно разговаривал. Но я видел Маршала после этих бесед. Видел его поникшую голову и беспомощно опущенные плечи, потухший взгляд.
Войчиньский неоднократно обращался к Пилсудскому с просьбой согласиться на созыв консилиума, но Маршал не хотел и слышать об этом. На все аргументы коротко отвечал: «Не хочу». Войчиньский был в отчаянии.
Однако, несмотря на голодание, тошнота и рвота повторялись все чаще, а наше беспокойство начало переходить в панику. Наступило 4 апреля, когда мы решили еще раз атаковать Маршала по вопросу консилиума. Время для разговора выбрали около полуночи, когда Пилсудский составлял план на следующий день.
Явились к Маршалу вдвоем. Комендант сразу же догадался, что у нас какое-то серьезное дело, и, видя наши колебания, сказал:
— Ну, снесите же наконец свое яйцо.
— Пан Маршал, — начал Войчиньский, — надо обязательно собрать консилиум. Очень давно его не собирали.
Пилсудский враждебно посмотрел на доктора и демонстративно обратился ко мне, игнорируя его.
— Эти врачи — отвратительный народ, мерзавцы, проходимцы, негодяи!
Маршал повысил голос. Войчиньский стоял, как на горячих углях, переступая с ноги на ногу, наконец он не выдержал:
— Когда надумаете, пан Маршал, скажите мне.
Поклонился и вышел. Я остался с Пилсудским.
Маршал продолжал метать громы и молнии по адресу всех врачей мира.
— Вы не представляете, какие это подлецы, как они любят досаждать другим.
— Ну да, — подтвердил я мнение Пилсудского о врачах, — но ведь вас вообще не лечат, и если так будет продолжаться, то вам станет хуже. Что же касается врачей, то можно взять других, тоже хороших.
Пилсудский тем временем совсем успокоился.
— Я бы даже согласился на этот консилиум, — сказал он примирительно.
Я тотчас же подхватил его слова.
— Может, я займусь этим вопросом?
— Хорошо, займитесь вместе с Войчиньским. Этот Войчиньский не такой уж плохой доктор.
На следующий день мы составили список врачей, которые должны были принять участие в консилиуме. Однако проделанная нами работа оказалась напрасной. Маршал, согласившись теоретически на созыв консилиума, на практике откладывал его со дня на день. Наконец, устав, по-видимому, от нашего давления, согласился.
Доступ к Пилсудскому врачи получили лишь 25 апреля.
Вечером я сидел в своей комнате и работал над книжечкой для молодежи, которая была издана позже под названием «От Сибири до Бельведера». Это была моя последняя работа, которую я писал с одобрения Маршала. Когда я сообщил ему ее название, он бросил: «У вас голова приспособлена для придумывания названий…» К сожалению, этой книги он уже не успел прочитать.
Как только я приготовился ужинать, раздались шаги и ко мне вошел Маршал. Через мою комнату проходила «дорога» в ванную, и он частенько заходил ко мне. Сейчас, однако, пришел «просто так», возможно, со скуки, а может быть, чтобы услышать человеческий голос в тех глухих инспекторских комнатах. Пришел и стал перед моим столом, опираясь о него обеими руками. С минуту молча глядел на мой ужин, затем начал смеяться своим тихим смехом, во время которого у него смеялось все лицо, а в особенности глаза. У Маршала было два способа смеяться. Один глубокий, уверенный, как бы выходящий из глубины легких, а другой — именно такой, каким он смеялся тогда у моего стола. Смеясь, он все время обращал мой взгляд на тарелку с сухой колбасой.