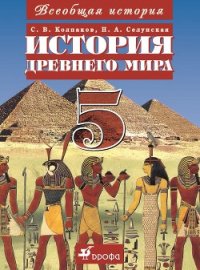Всеобщая история искусств. Искусство древнего мира и средних веков. Том 1 - Алпатов Михаил Владимирович
В древнем искусстве место действия обозначалось через предметы, аллегории, в частности море или река обозначались рыбами (ср. 73, стр. 43). В этом сказывалось мифологическое понимание природы. В эллинистических рельефах и в картинах пейзаж приобретает еще большее значение, чем даже в искусстве IV века (ср. 8). В рельефе с крестьянином передается поэтическая обстановка местности, через которую он проходит. Видна священная ограда с полуразрушенной стеной, подобие руины; сучковатое дерево протягивает свои ветви через небольшие ворота, маленькое святилище с гермой высится на втором плане композиции. Передача всего этого в рельефе стала возможной благодаря тому, что рельеф приобрел многопланность и его сильно выступающие фигуры противопоставлены задней плоскости со слегка обозначенным очерком предметов. Впрочем, все же даже в этом рельефе пейзаж складывается из отдельных четко отграниченных предметов, как это неизменно замечается и в античном рельефе и в живописи. К тому же рельеф строго и симметрично построен, край ограды делит его на две равные части. Позднегреческие рельефы обычно называют живописными; греческий пейзаж следует скорее назвать скульптурным.
К перечисленным родам позднегреческого искусства присоединяется портрет. В раннегреческом искусстве он занимал очень скромное положение, во всяком случае был значительно менее развит, чем в древнем Египте. Еще Платон ставил род выше индивида. Правда, источники упоминают мастеров портрета V века до н. э.; сохранились и памятники скульптурного портрета. Но портрет Перикла работы Кресила носит очень обобщенный характер. Государственный муж представлен в высоком шлеме, для того чтобы его индивидуальная черта — неправильность черепа — была скрыта от глаз. Портретное искусство считалось в V веке несоединимым с возвышенной красотой. Когда Фидий, предвосхищая в этом мастеров Возрождения, увековечил свой автопортрет на щите Афины в сцене битвы, его обвинили в кощунстве.
На рубеже V и IV веков в Афинах славился своими портретами мастер Деметрий из Алопеки. Современников поражало, что он стремился в портретах больше к сходству, чем к красоте. Рассказывали, что он передал в портрете коринфского полководца его выпирающее брюхо, а в облике старой жрицы — ее дряхлость. Судя по некоторым произведениям, связанным с именем Деметрия, он действительно не прикрашивал черт модели. Но по силе характера, цельности образов портреты Деметрия были еще очень близки идеалам V века, да и скульптурные приемы мастера сближают его с поколением Фидия.
Лишь в IV веке до н. э. греки приложили весь свой творческий опыт к созданию портрета, основанного на глубоком проникновении в самую природу человека. Многочисленные греческие портреты IV века производят чарующее впечатление прежде всего выражением богатой душевной жизни, неведомой даже лучшим портретам древнего Египта. Недаром и Сократ в своей беседе с Ксенофонтом ставил непременным условием передачу в портрете души.
Сохранилась целая галерея греческих портретов IV века. Греки считали, что в портрете достойны быть увековеченными люди почтенные, немолодые, мудрые, накопившие жизненный опыт. Здесь и сам курносый Сократ с его приветливой улыбкой, нечесаной бородой и притягательным светлым взглядом, и важный, величавый Платон, и Еврипид с его глубоко запавшими глазами и скорбным выражением губ, и, наконец, Демосфен с его позой народного трибуна, нахмуренным лбом и крепко сжатыми руками. Мы находим еще много других безыменных греков, исполненных достоинства, но без чванства, внутренне взволнованных, но внешне спокойных, то словно обращающихся к собеседнику, то погруженных в светлую задумчивость. Всем им греческие мастера стремились придать черты мудрецов, мыслителей.
В поздней бронзовой голове неизвестного грека (89) в сравнении с головой V века (ср. фронтиспис) ясно бросается в глаза, что художника интересует не столько самая структура лица, сколько его покров. Мы угадываем мясистость носа и щек, всклокоченные волосы, заплывшие глаза с переданными инкрустацией белком и зрачком. В портрете IV века неизмеримо большую роль, чем в скульптуре IV века, играет светотень, градации теней, световые блики бронзы.
И все-таки даже в этом позднем произведении дает о себе знать классическая основа. Голова очень ясна по своей структуре благодаря горизонтальным членениям волос, носа и рта. Лицо этого мудреца со всеми его тонко переданными морщинами, отпечатком мыслей и чувств не спутаешь с застылым древневосточным портретным образом (ср. 3, 51).
Поздним отголоском эллинистического портрета являются портреты, найденные в Египте, в оазисе Фаюм. Они относятся уже к первым векам нашей эры и очень неровны по выполнению: в одних сказывается влияние римского портрета, в других заметны египетские местные традиции, в третьих — грубость техники самоучек. Но в своих основных чертах они свидетельствуют о том высоком мастерстве, которого достигла эллинистическая живопись. Лучшие фаюмские портреты показывают развитие тех исканий, которые вдохновляли скульпторов начиная с IV века до н. э. (100). Техника живописи восковыми красками позволила мастерам пользоваться широкими красочными мазками, густой живописной массой, прибегая кое-где к дополнительным цветам. В портретах прекрасно передается объем человеческого лица, загоревшая кожа, блеск черных, широко раскрытых глаз, густые курчавые волосы, красные мясистые губы.
Каждый из этих портретов отличается глубоко индивидуальным характером. Однако уже в одном том, как строго держатся люди, как прямо и уверенно они смотрят перед собой, в них всегда проступает античный идеал благородства, мужества, достоинства. Только в поздних портретах с их особенно широко раскрытыми глазами пробуждается выражение страха и тревоги, мысль о спасении души, которая в начале нашей эры волновала людей. Греческое наследие сказалось в фаюмских портретах и в том, что при всей живописности выполнения головы никогда не сливаются с фоном; портрет задуман как слепок лица. Недаром жители Египта использовали портреты в качестве масок для мумий.
В эпоху эллинизма в Греции получает распространение особый литературный жанр: описания картин. Его самым блестящим представителем был Филострат (II–III века н. э.). Многие из его описаний носят наполовину вымышленный характер: он говорит о картинах, каких в действительности не было и не могло существовать. Но, изложенные в образной литературной форме, эти описания дают представление о том, какой живописи желали люди той поры. Все они свидетельствуют об их ненасытной жажде зрительных впечатлений. Герои древних мифов стоят перед глазами Филострата, как живые, будто он близко с ними знаком. Но эта привязанность к возвышенному не мешает ему зорко всматриваться в окружающий мир и замечать бытовые сценки, вроде охотников, отправляющихся на охоту, или рыбаков на берегу реки. Он восхищается очаровательными уголками природы, вроде заросшего болота или панорамы островов, разнообразных по своим очертаниям, то с голыми скалами, то с густыми деревьями. Филострат изумительно остро видит и Описывает вещи: зайца с распоротым брюхом, десяток диких уток, кислый хлеб с луком и сельдереем или плоды, принесенные в дар, темные, спелые фиги на зеленых виноградных листьях. «Некоторые слегка растрескавшиеся, — замечает он, — выпускают сладкий сок, другие — перезревшие, сморщенные или подгнившие». Он смотрит на все эти предметы не так, как люди, давно привыкшие к натюрморту как условному жанру, и потому он легко поддается соблазну принять эти изображенные плоды за настоящие, вкушая их аромат или смакуя сладость.
Многие описания Филострата бесспорно навеяны чисто зрительными впечатлениями: он говорит о юном Пелопсе с его кудрями, которые, выбиваясь из-под повязки золотыми потоками, сливаются с нежным пушком его бороды, замечает резвящихся на голубой поверхности моря различных рыб, среди которых «те, что плывут верхом, кажутся черными, менее темными те, что идут за ними; те же, что движутся вслед за этими, совсем незаметны для взора: сначала их можно видеть, как тень, но потом они совершенно сливаются с цветом воды». Нередко Филострат забывает, что говорит о картине, увлекает зрителя за собою и убеждает его, что он с ним вступает в картину и подплывает то к одному, то к другому острову. Порою ему с трудом удается удержаться в границах своих зрительных впечатлений, он начинает разговаривать с изображенными персонажами, как с живыми, или, предвосхищая возможность движущихся изображений, говорит о различных моментах как бы разыгрывающейся перед его глазами пантомимы.