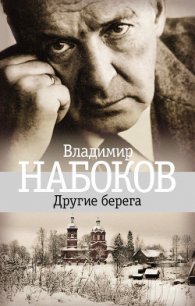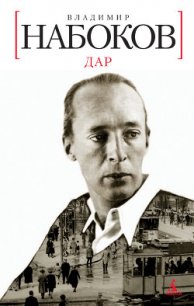Письма к Вере - Набоков Владимир (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
ЯЯ кончил университет два года тому назад. Два факультета – естественный и филологический.
ДамаА… вы, значит, служите?
Я.Музе.
ДамаАх, вы – поэт. И давно пишете? Скажите, вы читали Алданова – занятно, не правда ли? Вообще, в наше трудное время книги очень помогают! Возьмешь, бывало, Волошина или Сирина – и сразу на душе легче. Но сейчас, знаете, книги так дороги…
Я.Да, чрезвычайно дороги (и скромно удаляюсь инкогнито).
Веселенький разговор? Я тебе привел его буквально.
Счастье мое, знаешь, завтра ровно год, как я разошелся с невестой. Жалею ли? Нет. Это должно было так случиться, чтоб я мог встретить тебя. После «Господина Морна» я напишу второе – заключительное – действие «Скитальцев». Вдруг захотелось. А сейчас тушу свечу – и спать. Нет, еще почитаю немножко. Люблю тебя, моя хорошая. Пиши мне почаще – а то я не могу. И семнадцатого встреть на вокзале.
В.
6. 10 января 1924 г.
Прага – Берлин, Ландхаусштрассе, 41
10 – 1 – 24
Smichov, Trida Svornosty, 37
Prague
Любовь моя, сегодня я был уверен, что влетит ко мне сестра с криком: «Письмо от Madame Bertrán!» – ан нет. Очень мне грустно стало… «Что письма? – белые заплаты на черном рубище разлук» (парафраза известного стиха господина Лермонтова).
Вчера был вечер, сошедший с фламандского полотна, неподвижный в туманной поволоке. Над снегами, в тумане, закат просвечивал нежно и смутно, как непроявленные цвета декалькомании (знаешь?). Перейдя реку по льду, я поднялся на холм – белый, в черных кустах голой бузины; холм с одной стороны обрывается вниз крепостною стеной, а на вершине его стоит темный двухбашенный собор, схваченный кое-где червонной резьбой, – словно лег славянский отблеск на готическую геометрию. Тут же, за чугунной оградой, находится и католическая скудельница: ровные могилки, золотые распятья. Над дверью храма – дуговой барельеф, оканчивающийся по бокам двери двумя головами – лепными выпуклыми лицами двух… шутов. У одного крупные, лукавые черты, лицо другого искажено кривою усмешкой презренья; оба – в тех лопастых кожаных шапках-капюшонах (напоминающих одновременно и крылья летучей мыши, и петушиный гребень), в которых ходили средневековые шуты. На других дверях я нашел еще несколько лиц таких – и выраженье у всех разное: у одного, например, прекрасный, строгий профиль – под складками грубого убора: ангел-шут. Мне нравится думать, что ваятель, обиженный нещедрой наградой, скупостью хмурых монахов, которых ему поручено было изобразить на стенах, обратил их лица, не меняя сходства, в лица шутов. А может быть, – это есть мне милый символ, – что только через смех смертные попадают в рай… Ты согласна?
Я обошел собор по скользкой тропе, между сугробов. Снег был легкий, сухой: захватишь в горсть, кинешь – он пылью рассыпается в воздухе, словно летит назад. Небо померкло. В нем стояла тонкая, золотая луна: половинка разбитого венчика. Шел я по краю крепостной стены. Внизу в густе(ю)щем тумане лежала старая Прага. Громоздко и смутно теснились снежные крыши; дома казались свалены кое-как, – в минуту тяжкой и фантастической небрежности. В этой застывшей буре очертаний, в этой снежной полумгле горели фонари и окна теплым и сладким блеском, как обсосанные пуншевые леденцы. В одном месте только виднелся и алый огонек: капля гранатового соку. И в тумане кривых стен, дымных углов я угадывал древнее гетто, мистические развалины, переулок Алхимиков…. А на обратном пути я сочинил небольшой монолог, который Дандилио скажет в предпоследнем действии:
На что Тременс отвечает: «Крайности сходятся, я с вами согласен, – но то-то и есть, что я бунтую против властелина – бытие: не хочу работать на него, а сразу отправиться на гулянки».
Несмотря на мою литературу, я тебя очень люблю, мое счастье, – и очень сержусь на тебя, что ты не пишешь мне. Все эти дни я нахожусь в напряженном и восторженном настроении, так как сочиняю «буквально» не переставая.
Мне говорили, что в «Руле» есть заметка госпожи Ландау о нашем агасферическом чтении. Ты читала?
До скорого, моя хорошая. Ты меня не «разлюбила»?
В.
7. 12 января 1924 г.
Праги – Берлин, Ландхаусштрассе, 41
12 – 1 – 24
12 часов ночи
«Ты безглагольна, как все, что прекрасно…» Я уже свыкся с мыслью, что не получу от тебя больше ни одного письма, нехорошая ты моя любовь. Посылаю тебе мой лик, который случайно нашел у мамы (а у нее еще один такой же). Снялся я два года тому, в Кэмбридже of sweet memories, накануне экзамена, – чтобы в случае «провала» найти знак обреченности, фатальную черточку в своем изображенье. Но, как видишь, я горд и беспечен.
Вчера наконец приехала наша мебель u. s. w. Оказывается, она пространствовала окружным путем (Гамбург – Америка – Сингапур – Константинополь) – чем и объясняется задержка. Теперь квартира наша немного повеселела, т. е. сперва было в каждой комнате (крошечной!) по одному стулу, теперь их целый полк – что напоминает вид комнаты, где показывают детям волшебный фонарь. (Мокрое полотно и длиннейшие объяснения при каждой картине: я ненавидел это в детстве.) Знаешь ли, что на обложке первого номера «Граней» наши фамилии рядом. Символ?
Сейчас у меня сидел Кадашев-Амфитеатров и рассказывал о знаменитых опечатках: в одной провинциальной газете было напечатано вместо «Богородицы» – «пуговица», – власти, конечно, не заметили бы, – но газета на следующий день извинилась за ошибку – и тут ее мгновенно прихлопнули. А Немирович-Данченко поругался со «Сполохами» за то, что в одном его рассказе, в самом драматическом месте, вместо «Бэппо, седлай коня!» было уютно и скромно напечатано «Бэппо, сделай коня!». Вот какие бывают истории…
Лампы тоже приехали, так что сейчас бумага и моя пишущая рука купаются в конусе света.
Сегодня произошло несчастие: мы пошли навещать с мамой и Кириллом одного больного профессора. Кирилл тащил санки. Попался мне на глаза высокий и крутой снежный скат, – я решил показать, что значит скатываться. Лег ничком на санки, посадил его к себе на спину – и оттолкнулся. (Меж тем собралась толпа зевак.) На половине пути что-то хрястнуло – и я уже летел без салазок и без Кирилла в вихре снегу. Оказалось: одна из полозьев не выдержала, сломалась (я очень потолстел за это время). Плач и упреки продолжались несколько часов. А вот что говорит Морн, прощаясь с Мидией: