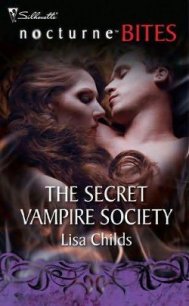Первый год Республики - Вершинин Лев Рэмович (читать книги бесплатно .txt) 📗
— Последний вопрос мой по сему поводу: чему обязаны вы связью с упомянутыми? Обижены ль они были Республикою? Прельщены ль?
— Помыслов их не ведаю; впрочем, каждому мною обещаны были от Государя Императора щедрые вознаграждения. Размер пожалований на каждый случай обговариваем был отдельно, соответственно мере участия в заговоре. Для поручиков Бобовича и Шевченки чрез Артамона Муравьева имел письменно выраженное Государево изволение на пожалование сих особ поместьями и баронским достоинством…
— Извольте сесть!
Боборыко, картинно выбросив руку, протянул к столу Трибунала связку бумаг.
— Сограждане трибунальцы! Признание злодея, вами слышанное, подтверждается письмами, его рукой писанными и адресованными помянутым Бобовичу и Шевченке, а равно и Штольцу, и содержат инструкции наиконкретнейшие о проведении в исполнение изложенного Волконским умысла; восемь изъяты из шкала злоумышленника, еще пять перехвачены лицами, чье служенье Конституции беззаветно… Признаете ли подлинность писем, Волконский?
— Да.
Вымолвил через силу — и ощутил слабое, ободряющее пожатие; поразился мельком синюшной бледности отца Даниила и мертвенному хладу руки.
— Более вопросов не имею!
Отвесив полупоклон, Боборыко оставил трибуну.
Над алым сукном качнулась фигура первоприсутствующего Конституционного Трибунала генерала Юшневского.
— Серг… Гражданин Волконский! Имеете ль что сообщить Трибуналу дополнительно?
Господи! голос у Алеши дрожит… вдруг захотелось сказать: «Нет!» — хотя б раз за день. Однако встал, пересиливая себя, с неуверенностью (сего не предусматривал отец Даниил); качнулся, заставил себя держаться прямо, отгоняя радужные круги, плывущие перед взором.
— Единое лишь…
(Белым пятном в черной раме бороды мелькнуло под локтем лицо священника.)
— Единое… Ныне, опозорив честь свою и род свой запятнав… хоть безмерна вина… прошу верить: все, мною сделанное, сделано не иначе как на благо России!
И замолчал; больше уж не произнес ни слова, до самого конца, даже и когда вывели. Не в ту дверь, через которую ввели, а в иную, большую, в дальнем конце залы. Не было уже рядом отца Даниила; вокруг — незнакомые, совсем еще юные лица. Изумлены; не чаяли — его! — тут видеть. Что ж! им и не называли Волконского; к чему? И хотя уже не оставалось в душе ничего живого, хоть и душу саму приморозило, а вдруг заинтересовался: кто ж из них Штольц? Который Бобович?
Сидели вдоль стен молча; все разговоры переговорили. Юнцы с нетерпеливым задором поглядывали на дверь: когда ж обвиненье предъявят? Час, и другой, и третий — по брегету. Наконец отворились крашеные створки. Вошли солдаты, подняли с мест, оцепили, сбили поплотнее. Следом — Боборыко с папкою в руках.
Раскрыл. Прокашлялся.
— Именем Республики Российской!
Читал долго, нудно, изредка останавливаясь. Безысходная тишина была ответом; молодые замерли в непонимании, Сергей же Григорьевич, зная, жаждал одного — слова, твердо обещанного отцом Даниилом.
— …согласно артикулам военного времени и не находя обеляющих обстоятельств, единогласно приговорили…
Ну же, ну!..
— Бывшего генерала Волконского Сергея; бывших поручиков Бобовича Станислава, Шевченко Фому, Панина Сергея, Иванова Петра, Таубе Отто, Попадопуло Христе, Солдатенкова Василия, Гонгадзе Вахтанга; бывших подпоручиков Штольца Антона, Панина Виктора, Иванова Павла, Апостолова Георгия, Лушева Ивана, Торосова Славомира, Карпова Василия, Богородского Пахомия, Штейнберга Осипа, Крестовского Андрея; бывших прапорщиков Львова Александра, Мацкевича Константина, Рябушкина Степана; а такоже бывших корнета Таньшина Иннокентия и подлекаря Мокаркина Савву…
Значительно, явно не без умысла, умолк. И:
— К расстрелянию!
С беспредельной легкостью вошло в душу Волконского жданное, вымечтанное слово. Не обманули, слава Господу! Отрешившись, вдруг и наконец, от всего бренного, он сложил руки на груди, и уж не слушал дальше, и не услыхал потому потрясенного — не в ужасе, нет! — в невыразимом изумлении! — вскрика Станислава Бобовича:
— Как?! Но разве нас судили?
«Мари, ангел, душа моя! В сей последний, страшный, смертный миг мой летят все мысли к Тебе, бессмертная любовь; при едином воспоминании о Тебе охватывает радость, но вспомню лишь об истинной сущности положения своего
— и нет уже радости, одни лишь грусть и скорбь, ничего кроме. Мог ли знать, что уготовано Роком? нынче знаю: лишь в Тебе и была жизнь. Тобою лишь утверждалась, не иначе!.. О Боже, для чего покидаем тех, кого любим?.. зачем живем в суете?.. зачем сознаем суть Любви лишь в преддверии смерти?.. Храня в сердце образ Твой, являюсь счастливейшим из живших, но и несчастнейшим, ибо не увижу уже Тебя воочию и уйду, горюя о том, что омрачил дни счастия, коим не по грехам наградил Господь мои седины; увы! в моих летах следовало более размышлять о житейском… а возможно ли сие было на избранном мною пути?.. Лишь год тому — как странно! — и не думал об этом в гордыне. Впрочем! что толку сетовать? избрав дорогу, идти должно по ней, не пеняя…
Ангел, ангел!.. лишь час подарен мне на сие письмо; верю: доставят его непременно… но за столь краткий срок и малой крупицы чувств не изложу; уж и тем счастлив, что сего листа коснется Твоя рука, что строки, писанные второпях, будут Тобою прочтены… о, какое страстное желанье видеть Тебя! моя жизнь, моя Судьба — прощай! Целую, целую, целую руки Твои… знаю: не смею, не достоин, и все же: целую, целую, целую!.. и ежели в душе Твоей теплится хоть малый огонек снисхожденья к путнику, утратившему свет путеводной звезды, к слепцу, стоящему на краю бездны, молю: забудь меня! будь счастлива! но никогда, никогда не сомневайся в одном — в вечной верности обожающего Тебя Сергея Волконского».
Второй залп вышел немногим удачней первого.
Докалывали штыками…
3. ОСКОЛКИ
— Стооой! Стой, стерррвы!
Увидел: застопорились, задрали головы. И, огрев конягу нагайкой, погнал с откоса по липкой грязи, не щадя, не думая вовсе, что оттого и медлит скотина, что повисло на каждом копыте фунта под два самое малое бурой весенней жижи.
Настигнутая полузвериным рыком, замерла внизу, на размокшем тракте Тираспольском, серая колонна. Не мала, не велика, человек под триста; шинели оборваны, ноги замотаны во что попало. Чужой взглянет — шарахнется: не солдаты, тати с большой дороги. Однако же солдаты! да не какие-нибудь, а старослужащие; именная Конституции Российской рота, один к одному; резерв Верховного Правителя…
Рассыпав ряды, и без того нестройные, застыли истуканами, глядя на сползающего по косогору всадника. Конь не переступал даже, а скользил в глине, присев почти что на круп, аки баба на задницу. Ноздри часто вздымались, выдыхая беловатый теплый парок; в нутре что-то надрывно екало, отзываясь болезненным ржанием.
Сползли. Шенкелями безжалостно выровнял конягу. И с маху — в толпу, крестя во все стороны татарской треххвосткой.
— Ссссуки! Изменщики!
Не стерпев, рухнул конь головой в грязь; и сам полетел. Вскочил, перевернувшись через голову, точно кошка: откуда и силы взялись? — оттого, видать, что нагнал-таки! Снова — в нагайку расплывающиеся ненавистные хари.
— К-куд-да?
Руку перехватили; сомкнулись вокруг, сознав в момент, что никого более нет и что попросту смешон сей ком глины, размахивающий плетью. Сквозь запах пота собственного и конского, коим так уж пропитался, что и не ощущал, пахнуло иным: острым, звериным почти, с чесночным придыхом. Теснились все гуще; вот, нещадно сжав запястья, вырвали кнутовище. Примеривались: кто первым вдарит?
— Прочь! — гулкой волной разметает толпу приказ.
Отхлынули. Распрямился, утверждаясь на раскоряченных, огнем исподу горящих ногах. Вгляделся в избавителя. Охнул.
— Михей?!
— Он самый, вашсокбродь! — почти с добродушием гудит тот же басище.