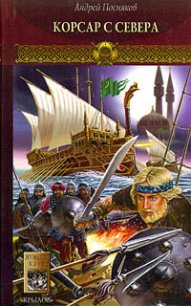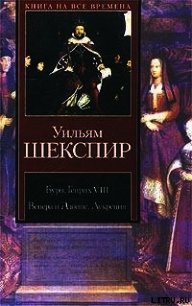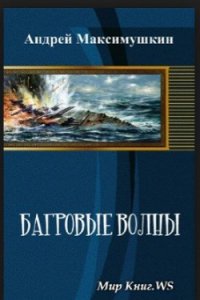Час новгородской славы - Посняков Андрей (электронная книга TXT) 📗
Ну, тут пришлось Софье подсуетиться, по гостям поездить, речи вести да уговаривать. Уговорила. Уж в ее-то знатности сомневаться не приходилось. Больше даже не с боярами спесивыми толковала Софья, а с женами их, матерьми да дочками. О том, чего не написал Олег Иваныч в программе, да что хотел провести: дать избирательные права женщинам новгородским. Не только пассивные, но и активные, чтоб могли должности важные исполнять, включая и посадничью даже.
Дело такое новгородским теткам шибко понравилось. Правда и есть – надоели уж эти мужики! Чуть вольности новгородские князю Московскому не профукали! Надо, надо власть женским умом хитрым разбавить. Про то уж пол-Новгорода шушукалось в теремах да светелках девичьих.
Поистине для Олега Иваныча это был туз в рукаве. Куда там соперникам! До такого – баб на должности избирать – никто еще не додумался, кроме вот Олега Иваныча. Да и того, честно говоря, Гриша на мысль навел – перечел недавно Аристофана «Женщины в народном собрании».
И как хорошо получилось! Днем бояре-соперники знатных людей в свою пользу склоняют, ну а ночью жены в дело вступают. А ночная кукушка завсегда дневную перекукует – есть такая пословица.
Выбрал Олега Иваныча народ новгородский – криком изошел на площади перед вечевым помостом. В храме Софийском Феофил-владыко лично приветствовал да молебен чел во здравие! Одна формальность осталась – утверждение княжеское. Раньше для Новгорода – тьфу! Да ведь не то после Шелони. Обязаны с московским князем советоваться. А ну как не утвердит князь?
Правда, время выборов для Новгорода сложилось удачно – не так для Москвы. То пожар – почти весь город выгорел. То мор. То татары. То родные братья Великого князя Ивана бунтуют, не хотят терпеть его тяжелую руку.
Да и боярам московским знатным, глядючи на Новгород, завидно. Вот бы и у них, в Москве, таковые штуки завесть, как в иных заморских землях, скажем, в Английской или Французской. Сами-то они, москвичи, не видывали, а змеи-новгородцы сказывали, будто в тех землях басурманских, кроме королей, еще и мужи знатные (и даже простые торговые мужики!) власть имеют, на сборище собираючись, самим королем уважаемое. Сборище то парламентом именуется или Генеральными Штатами. У Литвы поганой и то Сейм есть, у Новгорода – вече. А Москва что ж, хуже? Эх, побольше бы бояр знатных да от князя землями независимых, тогда бы… Или пора уже? Грохнуть кулаком перед Иваном: хватит, направился, дай же и людям знатным свое слово молвить!
Иван, те настроения зная, пресекал их жестоко. Не один и не два боярина странной смертью погибли. Страх поселился в Москве, страх перед гневом государевым. Да он никогда и не уходил оттуда. Ничего, кроме ненависти, не вызывал у Ивана и Новгород – жаль, не додавил тогда, на Шелони! Да покуда недосуг им заняться – своих проблем полно. Свои-то бояре, ух, змеи лютейшие, ужо держитесь, покатятся скоро ваши головы. Слава Богу, хоть еще торговые мужики не бунтуют. Пусть только попробуют, сволочи! Всех к ногтю! Войска верного хватит. А то моду взяли, на иные земли смотреть, сравнивать, думать. Не думы те богопротивные московскому люду нужны, а в благолепие княжеское вера! Зря, что ли, женился на византийской царевне Софье? Вот уж где крепкое государство – в Византии. Базилевс – все остальные – ничто. Вот так и в Москве надо! Жаль, пала Византия. Но Москва теперь – ее наследница. Второй Рим – Константинополь, Москва – третий. А четвертому не бывать! Потому нечего на басурманские страны смотреть, очи да языки поганить. Все, что в Москве Великий князь делает, то и есть правда. Все остальное – ложь и богохульство. Дай Бог управиться с пожаром да с боярами. Татары еще… Ладно, всех побьем, а уж потом за Новгород примемся.
Ох, уж этот Новгород – словно бельмо на глазу. Выкорчевать, вырвать с корнем эту новгородскую заразу – вече да права какие-то. Какие, к чертям собачьим, права могут у худых мужиков быть, кроме как перед княжьим величием башку благоговейно склонять? То и боярам уразуметь не худо, ну а дворяне и так послушны – землицу-то им кто дает? То-то же! Князюшка! Хочет – даст, хочет – отнимет. Его государева воля. А Новгород – сжечь, чтоб и не было! Ну, это не сразу. Пока же…
Кого они там посадником выбрали, государя не спросясь? Боярина Завойского. Не знаю такого. Старый-то посадник был, Епифан Власьевич, дурак дураком. Наверное, и этот такой же. Да черт с ними обоими. В следующее лето – новый поход. И к ногтю их всех, к ногтю.
– Эй, кто тут, в покоях? Дьяка Курицына сюда! Да побыстрее!
– Звал, великий государь?
– Звал, звал… Новгородского посадника утверждаю. Все равно сейчас не до них, а не утверди – так ведь нового-то, чай, не выберут. Оттого нашей государевой чести поруха. Так?
– Так, великий государь.
– Ну, а раз так, отправь кого-нибудь в Новгород от моего имени. Да не из знатных кого. Так, худородных. Не шибко-то честь Новгороду… Все понял?
– Исполню, великий государь.
– Ну и исполняй. Да, скажи-ка, Федор, что братцы мои разлюбезные поделывают? Вот где змеи-то притаились.
Вырвавшись из дому, без оглядки бежала вдоль по Молотковой улице Марья, красавица греческая. В черных глазах ее застыла жгучая обида, катились по щекам злые слезы. Ветер сдувал их, сушил, морозил лицо. Черные косы бились по плечам, распахнулся полушубок. Прочила мать, Фекла, в женихи Маше давешнего старого урода. Низенького, плюгавенького, с бороденкой, как у козла. Нет! Никогда! Ни за что! Уж лучше Ондрюшка. Или… в проруби утопиться? Нет, убежать! Да, убежать. Вот прямо сейчас! Да не одной, а вместе с Ондрюшей. Одной-то страшно, а тот и сам бежать не раз подговаривал! Убегут далеко… Хоть в Тихвин, где икона.
Про икону ту чудесную рассказывали в Михалицком монастыре монахи. Сказывали, всех привечают в тех краях. Хоть и тоже новгородская земля – Тихвин – а от Новгорода куда как далече. Уродец козлобородый вовек не сыщет! Мать вот только жалко. И сестер, и братьев. Эх, удалось бы хоть как-то разбогатеть, хоть чуть-чуть, немножко. Из нищеты проклятой выбиться.
Может, в ушкуйники Ондрюше пойти? Не молод ли? Да нет. И помоложе него в ушкуйники хаживали. А зачем в ушкуйники? Он ведь года два уж у мастера Тимофея Рынкина замки делает. А Тихвин тоже кузнями своими славится. Чай, и Ондрюше работа найдется. Но захочет ли бросить отца своего, семейство? Они ведь тоже бедные. Пойдет ли со мной? Пойдет. Вроде любит. А там, Бог даст, и случится счастье. Матери будут серебришко присылать с оказией, да Ондрюшиным… Господи!
Не заметив присыпанную снегом ямину у трапезной Михалицкого монастыря, свалилась Маша. Хорошо, не убилась. Снег мягок оказался. Оглянулась, из ямы вылезая. Не видал ли кто? Ведь позорище! Скажут потом матери – видно, бражки перепила девка. А мать… Рука у нее тяжелая. Вон как по щеке вдарила – до сих пор красная.
Возок крытый по дороге от трапезной ехал, около ямы остановился. Подняла глаза Маша – глядь, а из возка-то плюгавец тот выходит! С бороденкой козлиной. Правду говорят, помянешь нечистого – он и объявится.
Кинулась Маша бежать – да вскрикнула вдруг. Ногу, в яму упав, подвернула.
Плюгавец кивнул кучеру. Тот нагнулся – ух и здоров же! – поднял на руки, понес к возку.
Маша уж было в крик…
– Не обижу тебя, девица, – дребезжаще, будто старик какой, промолвил плюгавец. – Знай, не хочу я на тебе жениться. И в мыслях такое не держивал – губить ваше с Ондрюшей счастие.
Вот так да! Удивилась Маша, даже рот от удивления открыла. Не заметила, как и в возке оказалась.
– Собрался я в монастырь вскорости. В дальний, Антониев-Дымский. В монасях решил жизнь свою закончить.
А вроде и не злой он… как его… Митрий Акимыч. Смотрит ласково, ровно отец родной.
– Понравились вы мне. И ты, и суженый твой, Ондрюша.
– Не суженый он мне пока.
– Ну, не суженый, так ряженый, дело молодое, знакомое… Хочу напоследок, в мирской своей жизни, дело сотворить доброе. Есть у меня знакомец на посаде дальнем, Тихвинском.