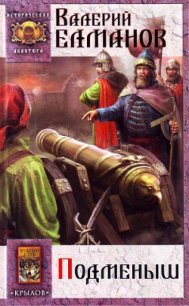Битвы за корону. Три Федора - Елманов Валерий Иванович (список книг .TXT) 📗
Про других родичей или приятелей Федора Никитича и говорить нечего. Недалече от Романова его ляпший друг князь Репнин, чуть поодаль зять Федора Никитича князь Троекуров и прочие.
И дует Малый совет, разумеется, в одну дуду – романовскую. Ссыльные из благодарности, а прочие – по дружбе либо по родству. Правда, столь же авторитетен у бывших опальных и Семен Никитич Годунов, но, учитывая, что и он Федору Никитичу ни в чем не перечит, можно считать заглавным одного Романова.
Немногим лучше обстояли дела и в Боярской думе, куда следовали принятые на Малом совете решения, по которым думцы должны выносить свои приговоры. Нет, официально первым в ней оставался Мстиславский, но Федор Иванович отсутствовал, возглавлял береговые рати. С ним вместе на южные границы укатили Никита Трубецкой, Борис Татев, Федор Долгорукий, Федор Иванович и Иван Дмитриевич Хворостинины – дядя и племянник, и парочка Нагих – Афанасий и Михаил Александровичи. Юный Годунов отправил туда по совету Романова и Воротынского. Впрочем, с учетом этой отправки я начал сомневаться, что Иван Михайлович – «засланный казачок».
Таким образом, получалось, что и в Думе верховодят сторонники Романова. Кто именно? Федор Шереметев – в родстве с Троекуровым и пострадал от Годунова, лишившись своего двора в Кремле; еще один «страдалец» Петр Головин – брат новоиспеченного казначея Василия Головина; Василий Корданукович Черкасский…. Помнится, последний свою преданность их клану зарекомендовал сразу после гибели Дмитрия, приняв участие в кулачном бою, состоявшемуся с братьями Нагими.
Услышав о них я взбодрился, но Власьев остудил меня. Мол, не стоит мне возлагать на них особых надежд. Конюший боярин Михаил Федорович Нагой хоть и остался вместо Мстиславского, то есть временным главой Думы, но проку с него как с козла молока. Впрочем, от двоих остальных – его родного брата Григория и двоюродного Александра – тоже.
Но как Афанасий Иванович ни старался меня предостеречь в отношении Романова, всерьез я слова дьяка насчет нависших над моею головой грозовых туч не воспринял. Так и сказал ему. Мол, неприятно, конечно, если они примутся вставлять мне палки в колеса, но как-нибудь переживу. Пока имеется надежная опора в лице престолоблюстителя, между прочим, без пяти минут государя, меня Федору Никитичу, как он ни старайся, не сожрать, подавится.
– А все равно лучше б тебе поостеречься, княже, – настойчиво повторил Власьев. – Речами-то Романов тих, да сердцем лих. Руки лижет, а зубы скалит.
– Пусть попробует – вмиг пересчитаю, – проворчал я.
– Их не считать – их вырывать надобно, – возразил дьяк. – К тому ж поумнел боярин. Опосля того, как покойный государь Борис Федорович трепку ему задал, он инако себя ведет. Голова у него теперь завсегда с поклоном, ноги с подходом, руки с подносом, сердце с покором, язык с приговором. Он и по яйцам пройдет – ни одного не раздавит. И даже когда решит, что его час пробил, все одно, попробует чужими зубами ворогам своим глотку порвать. А на зло, поверь мне, он памятлив. Борису Федоровичу отмстить не вышло, так он….
– Ты полагаешь, он может и престолоблюстителю…, – насторожился я, а в памяти помимо моей воли в очередной раз всплыло предсказание пророчицы насчет рикошета проклятья в сторону самых близких мне людей.
Власьев энергично замотал головой.
– Мыслю, покамест ты подле Федора Борисовича, навряд ли. Допрежь того боярин расстарается, дабы ты ему помехой не стал. Потому и упреждаю: не поддавайся на пчелкин медок – у нее жальце в запасе. Хитер он больно. Эвон сколь широко свои сети раскинул, да как ловко. Поначалу твоих доброхотов кого куда рассовал, а на их места своих назначил. Позже и родичей Федора Борисовича улестил, а ныне к Марине Юрьевне ластится, да и духовных особ не забывает. Не ведаю, яко у него с патриархом, а казанский митрополит Гермоген в Романове души не чает.
– С чего вдруг? – удивился я.
– Я ж тебе сказываю – он все больше лестью норовит, а Гермоген хоть и честен, да к льстивым наушникам доверчив. Да и боярина в страдальцах числит, де, тот неволею в монахи пострижен. А вдобавок и у тебя самого, поди, по осени распря с казанским владыкой в Костроме была, нет?
Я улыбнулся, припоминая. Действительно, уехал Гермоген из Костромы не просто недовольный мною, но взбешенный. Нет, не из-за того, что я отказался от предложения митрополита взбунтоваться против Дмитрия, отговорив от самоубийственной попытки и юного царевича. Это он проглотил бы. А вот насмешку….
….Разговор с владыкой Казанской епархии произошел, когда мы вместе плыли по реке Костроме, возвращаясь в город из Ипатьевского монастыря. Тогда-то он как бы между прочим осведомился, согласился бы я участвовать в мятеже, ежели бы случилось знамение с небес. Дабы меня не обвинили в неверии – с Гермогена станется – я твердо заявил, что если господь привидится мне во сне, потребует брать рать и вести ее на Москву, как благочестивый православный христианин я не стану противиться его повелению. Но коль приключится нечто иное, то… Вслед за этим последовал неопределенное пожатие плеч – пусть понимает как хочет.
Однако владыке хватило и такого. Он повернулся к своему служке отцу Авраамию, неизменно сопровождавшего своего патрона, и многозначительно заметил:
– Будем уповать, что для такого знатного воинника господь расщедрится и явит с небес чудо.
Я призадумался над таким смелым заявлением. Отчего-то вспомнились рассказы Годунова о многочисленных чудесах, происходящих в епархии Гермогена. То у него невесть каким чудом являются из-под пепелища иконы, то отыскиваются кости угодников. В точности по Высоцкому – то у него руины лают, то собаки говорят. Но ничего, мы тоже кой в чем поднаторели, а посему я по возвращению в Кострому дал распоряжение командиру спецназовской сотни Вяхе Засаду учинить тайную слежку и за самим митрополитом, и за всей его свитой. О странностях в их поведении сообщать немедленно, в любой час.
Оказалось, не зря.
На второй вечер из покоев владыки выскользнул отец Авраамий, сноровисто направившийся к городским воротам, ведущим в сторону моего полка. Топал он по лесной дорожке довольно-таки долго. Когда до казарм гвардейцев оставалось буквально каких-то полсотни саженей, он притормозил и… принялся примащивать на одно из деревьев икону.
Разбуженный среди ночи и извещенный обо всем Засадом я сразу понял, что против такого аргумента мне придется туговато, особенно с учетом непременной прелюдии, истолковывающей сей знак. На место будущего «видения» Палицына я не пошел – велика опасность напороться на монаха, ошивавшегося где-то в лесочке в ожидании, когда откроют городские ворота. Да и какая разница, что или кто изображен на иконе. Главное, у Гермогена появляется божье знамение. А если мы его заменим? Причем на такое, которое при всем желании не объяснить положительно.
– Сделаете так…, – и я проинструктировал Вяху, что надлежит снять икону и приготовить несколько сюрпризов для того, кто полезет за нею к дереву.
Ошибся я в одном – почему-то думалось, будто «вещий» сон приснится митрополиту, но оказалось – самому Авраамию. Тот рано поутру, едва открылись ворота, с первыми въехавшими в город крестьянскими возами тихо прокрался обратно в митрополичьи покои, а потом ворвался к нам во время завтрака.
Представление было разыграно безупречно и я в душе не раз аплодировал обоим артистам. Один то бишь Гермоген, вначале сурово отчитал монаха за появление в неурочный час, затем снизошел, нехотя дозволив пересказать свое видение. Второй тотчас вдохновенно изложил увиденное им во сне. Мол, он, якобы, разговаривал с Христом, и тот, возвестив о своем благословении на правое дело, сказал напоследок: «А дабы никто не колебался, оставляю тебе знак о нашем разговоре и мое благословение рати, коя пойдет защищать православную веру. Сим победиши!» С этими словами Христос исчез, а монах, встав с колен, увидел икону с изображением Христа-Пантократора, чудесным образом появившуюся на одной из ветвей деревьев. Авраамий долго молился на нее, затем направился по проселочной дороге обратно в Кострому, а едва завидев городские стены, проснулся.