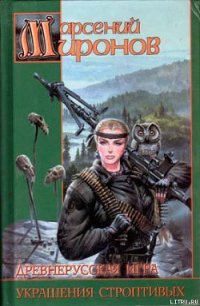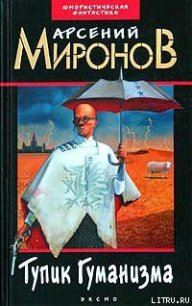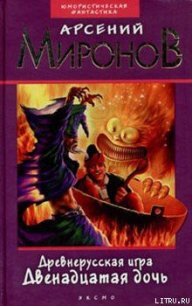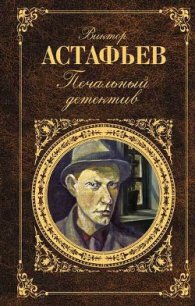Древнерусская игра: Много шума из никогда - Миронов Арсений Станиславович (читаем полную версию книг бесплатно .txt) 📗
Подонок в плаще не спеша подошел к наковальне, в задумчивости перебирая кузнечные, клещи. Ну все, сейчас он будет играть в гестапо: рвать мне ногти, зубы и волосы. Я прищурился, вглядываясь в рябое лицо юного эсэсовца: узкий нос с тонкими нервными ноздрями, бесцветные глазки между веснушчатых век. Красавец мужчина.
Неторопливо распутав какие-то завязки под подбородком, эсэсовец аккуратно снял форменный плащ, перегнул его пополам и осторожно положил на край наковальни. Будь я проклят: под плащом была светлая славянская рубаха и невинные крестьянские штаны с серыми заплатами на коленях. Босые бледные подошвы эсэсовца неторопливо прошлись у меня перед глазами куда-то в угол комнаты, потоптались там возле ящиков с инструментами — и снова направились ко мне. Тонко улыбаясь, рыбоглазый чурилец навис надо мной, склонив голову и веско подбрасывая в ладони небольшое аккуратное шильце с деревянной ручкой и длинным загнутым острием.
— Началом я глаза тебе выколю, — медленно улыбаясь, певуче сказало лицо эсэсовца. — А опосля, како в чувство вратишься, и разговор почнем. Добро?
Не дожидаясь ответа, он с наслажденьем опустился передо мной на корточки. А я подумал, что тюрьма — это еще не худшее из вражеских изобретений. И дернуло же меня за этими сапогами — сейчас бы сидел в Опорье, потягивал пиво и княжичу Посвисту инструкции давал…
…Когда эта книга выйдет в свет, на последней странице обязательно будет длинный список имен тех замечательных людей, которым автор благодарен за помощь и все такое прочее. Я попрошу автора включить в этот список имя Корчалиного десятника Жилы. В целом я негативно отношусь к Мокоши и ее слугам, но лично Жиле я чрезвычайно признателен. Потому что в тот самый момент, когда начинающий садист склонялся надо мной, сжимая в бестрепетных пальцах аккуратное шильце, десятник Жила, вот уже битый час разыскивавший своего юного голубоглазого напарника по сонной деревне, набрел-таки на старую кузницу, одиноко стоявшую на отшибе, возле самой городской стены.
— Э-ой! Есть кто дома?! — устало выкрикнул Жила, сворачивая к кузнице по узкой тропке между зарослей крапивы. Он уже почти не надеялся найти своего мелкого партнера, последнего из оставшихся в живых. Но — показалось вдруг, что внутри строения кто-то тихо разговаривает: может быть, местный коваль — из непьющих, а потому бодрствует, один во всей деревне?
— Э-ой! В кузне! Хозяин есть?! — еще раз гаркнул Жила, поправляя на голове кровавую повязку. А внутри кузницы шильце выпало из похолодевших пальцев садиста, и молодой чурилец, подтягивая на животе маскировочные славянские штаны, заторопился к двери — встретить гостя на улице.
Сдавленно замычал, дергаясь на полу, связанный парнишка с тряпкой во рту. Он узнал голос начальника Жилы, он услышал его. Жаль только, что Жила не мог в свою очередь среагировать на неслышные попискивания несовершеннолетнего спецназовца. Жила разговаривал с рябым долговязым типом в крестьянской рубахе, который представился местным кузнецом.
— Добро нам дошли. — Эсэсовец вежливо поприветствовал Жилу, переступая порог и поспешно прикрывая за собой дверь. — Я сам коваль Будята, сын Точилин…
Я тут же представил себе, как утомленный Жила недовольно кивает, удивляясь, что молодой коваль не приглашает в гости. Демонстративно потрогав грязную повязку на израненной голове, десятник вдумчиво смотрит на коваля:
— А что… жрецы Чурилкины разбеглись как будто? Терем пустоват стоит, само селяне пьяные, а Куруяда не видать… Не видал ли жрецов, Будята Точилин?
Любопытный разговор снаружи начинал раздражать меня. Похоже, десятник так и не догадается заглянуть в кузню. Печально: это было бы весьма кстати.
— Эм-хм-м! Хмы-эх! — снова натужно замычал юный дружинник, кивая мне головой и экспрессивно двигая бровями. Кажется, он показывал куда-то в угол… Я скосил глаза — там, возле моих перепутанных ног, валялся какой-то кузнечный реквизит. А точнее, небольшие ручные мехи — маленькие, с двумя гладкими рукоятками и костяным раструбом жерла.
— Сможешь ли допомочь мне, любый коваль? — вопросительно интересовался тем временем голос десятника Жилы. — Не взвидел ли дружинничка моего, малюту Сокольника? Слышал сам глас его недавно — близу площади кумирной. Воля мне сыскать его — не изранен ли есть, не избит ли?
А бедный Сокольник лежит в десяти метрах, за стеной полутемной кузницы — и мычит, багровея, и связанными ногами дергает.
— Я сам спал, — медленно тянет в ответ переодетый чурилец. — Не видал никто… Я сам хромый… По селу не хожу, чужие люди не ведаю…
Страшно дернувшись, связанный Сокольник рывком перевернулся на спину — и прямо на груди, поверх дырчатой кольчуги что-то металлическое тепло блеснуло мне в глаза. Маленькое такое, на цепочку зацепленное.
Боевой рог. Вот о чем мычал мне Сокольник.
Мягко подцепив босыми пальцами ног податливую кожу кузнечных мехов, я подтянул их поближе к коленям, а оттуда — четким движением — под себя, под спину. Туда, где перетянуты веревками онемевшие запястья. Теперь — огромной перевязанной тушей, загребая земляной пол плечом и коленями — к наковальне, поближе к Сокольнику. И он уже ползет навстречу — глаза радостные, как у влюбленной девушки.
— Хро-омый я… Шибко не пойду… — мычит снаружи гнусный эсэсовец, притворяясь придурковатым провинциальным кузнецом. А кузнечные мехи уже рядом с синеглазым Сокольником — повернувшись к нему спиной, вправить костяной раструб в холодное серебряное горлышко рога… Не слушаются пальцы, а Жила уже прощается на дворе с хроменьким кузнецом. Жаль, надеялся усталый десятник на его помощь — но придется, видно, ни с чем возвращаться к Корчале.
И вдруг — сипло, как легкие туберкулезника, расправились складки мехов, всасывая пыльный воздух. И — придавленные моим сломанным, но тяжелым плечом — выдохнули газообразное содержимое — литра три! — через узкий костяной раструб в самое жерло серебряного рога. Двумя израненными телами сдавленный, сквозь веревки удерживаемый бесчувственными пальцами, маленький рог Сокольника смог оказать нам только одну, но очень ценную услугу: он кратко и радостно взвизгнул, гуднул, заорал уходящему десятнику Жиле о том, что здесь, в кузне, связанные и беспомощные — свои!
Тихо всхлипнул снаружи псевдокузнец, прогибаясь под ударом железной десятниковой рукавицы, и — пополз куда-то, подбирая под живот ноги и слепо тыкаясь головой в крапиву. А Жила был уже на пороге — сухо треснув по периметру косяка, вылетела дверь, и золотисто-пыльная призма солнечного света вломилась в затхлое помещение. Два беспомощных тела радостно завозились на полу навстречу освободительному Жиле — а он, как старая рысь, тяжело впрыгнул внутрь, цепко озираясь по углам, не мелькнет ли где очередной враг. Никто не мелькал, и Жила поспешно подлетел к связанному напарнику, засапожным ножом распарывая путы на ногах, пальцами выковыривая кляп изо рта.
— Ну-у, брат! — Весело матерясь, десятник растормошил очумелого Сокольника. — Ну, напугал меня! Живый, ага? И то ладно. А… сапоги сыскал?
Пятнадцатилетний спецназовец, растиравший ладонями онемевшую шею, отрицательно качнул головой:
— Нема сапог. Две пары было. Нерву Куруяд увел, а другая — невесть где.
Я нетерпеливо пошевелился на полу. Приятно было видеть радостную встречу двух коллег по оружию, но ведь и меня неплохо бы развязать.
— Эвой кто? — тихо поинтересовался Жила, скосив на меня рысий глаз. — Куруядов приспешник? Али селянин местный? Живой ли?
Я издал какой-то звук, демонстрируя, что еще жив. Сокольник, спохватившись, повернулся ко мне, блестя в руке кривым ножиком:
— Ай, забыл! Это парень добрый. Распутываем его, он мне в рожок дунул. — И полез резать мне на ногах веревки. Но — Жила тихо положил на плечо юного коллеги кольчужную ладонь.
— Неспей… — Голос десятника недоверчиво дрогнул. — Невесть, что за людина.
И тут же, вглядевшись в мои изможденные черты, старший спецназовец удивленно вскинул брови:
— Эх! Да ведь он — ворюга давешний, что сапоги в речке бросал! Гляни-ка, браче: он самый. Вор с Дымного урочища! Сокольник приблизил лицо и вздохнул.