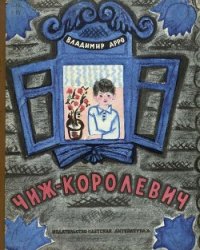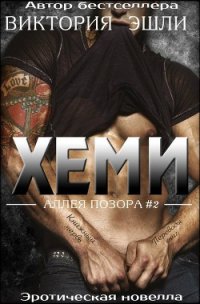Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
Только судьба его уже была предрешена, и в воздухе уже висели бомбы, которые уничтожат "Гаутаму", причем — вскорости, и застынет его тихий, дымящийся еще корпус, и заснет "Гаутама" на полях под Стембарком [82], и оставят там его: ржавеющий, порастающий молодыми березками труп, и в его теле станут организовывать концерты с показами лазеро и пиротехники [83].
А после того, как "Гаутама" остановился, когда после очередной бомбы стихли последние из его пушек, именно тогда мою горящую "пуму" погасили поляки и вытащили меня из корпуса, и только я выжил из всего экипажа, и я обратился к ним по-польски:
— Дзенькуе, панове!
А они на это отлаяли, что "панове" кончились на залещицком шоссе, и это было ошибкой, что я обратился к ним по-польски, потому что меня приняли за предателя или шпиона — ведь на броне моей "пумы" не было каких-либо знаков принадлежности: ни свастики Ордена, ни черного флага махновцев, ни красного большевистского, ни польской шахматки, ни чешского триколора.
У меня был хороший экипаж. Молодой водила управлял машиной весьма дерзко, так что из леса мы выскакивали лишь на мгновение, только чтобы выстрелить, и нашу черную броню помнили, когда мы выскакивали из леса, и помнили наше орудие, плюющее огнем и разбивающее их машины с укреплениями, но не помнили, что, снуя между сражающимися, мы палили из пушки и пулемета о всех, сражались с каждым, кото только могли увидать в прицел.
Моего водилы уже не было в живых, остальных из экипажа — тоже, а я жил, пока поляк не приставил мне ко лбу советский пистолет и не выстрелил; и я уже не жил, вот только совершенно не понимаю, на кой ляд меня из той горящей "пумы" вытаскивали, и эта смерть — равно как и все остальные — погружена во ВсеПашко, продолжает ВсеПашко, точно так же, как всякая жизнь продолжает ВсеПашко, так что я и живой, и мертвый, и хороший, и плохой, и победивший, и проигравший, и достойный, и недостойный. Но более, сильнее чувствую то, чего во мне больше, а больше во мне смерти, чем жизни.
А в истинном в-миру-пребывании, отделяю, брат фон Кёнигсегг сделал так, что дал я обеты и получил одеяние с черным крестом, получил постель в общем зале и получил право сражаться ради Ордена, право на ежедневные молитвы, на посты и на дисциплину, и все это должно было привести меня на небо, в которое я обоснованно не верил. Ибо не было неба и нет: есть только смерть после смерти, ведь не могу я назвать это жизнью, это — когда злой божок заставляет меня, ВсеПашко, действовать, хотя ведь ВсеПашко — это не я, ведь я — это только Пашко, тот единственный, которым был на самом деле, зачатый в грехе, рожденный в страданиях, который, будучи дитятей, жил в позоре и унижении матушки своей, а потом и в собственном позоре человека без дома и места, в собственных грехах и собственном безумии, пока, наконец, не умер, без смысла и без причины, и ни за что, и вся жизнь моя была словно кошмарный сон; и все же: и жизнь, и Пашко — это я, и я — это Пашко, и Пашко был сам, а не что-то заставляло его быть, так что я есмь и не есмь, и не только потому, что это злой всебожок меня направляет в жизни, но и потому, что я — это не я, я не Пашко, я злой демон полного спектра ненависти, я злой и черный божок, который час себя складывает в жертву на собственном алтаре, и других я встречаю лишь во снах, в неправде, а так я сам, одинешенек, все сам и сам, сам-один, я собственная пытка и собственный палач, и собственная боль, и лишь самим собой не являюсь, нет "я", имеются только "мы", мы, Пашки, слитые воедино.
А вы, проклятые, вы живете во лжи, в которой моя жизнь, как вам кажется, принадлежит истории, тому, что было когда-то; а то, что было когда-то, его как бы и не было, и мои страдания кажутся вам несуществующими страданиями, ибо не ваши они, и даже проклятый Грюнвальд, проклятый Танненберг — вы же не помните о той громадной и прекрасной битве, в которой мне довелось столь прекрасно и абсурдно отдать жизнь, вы помните только лишь о памятниках и книгах, которые возвели и написали ваши деды.
Вы помните о великолепных, великолепно неправдивых книжках Генрика Сенкевича и о неправдивых мавзолеях Гинденбурга, и о ненастоящей второй битве при Танненберге, в которой германская стихия должна была отомстить поражение пятисотлетней давности, только все это неправда. Ваша Битва при Грюнвальде ближе моему Извечному Грюнвальду, Эвигер Танненберг, чем тому Грюнвальду, который был, и в котором я вступил между двумя сражающимися сторонами, но не по причине ненависти к полякам или немцам, а из ненависти к настоящим людям, дерущимся по обеим сторонам, и из ненависти к самому себе; я туда вступил лишь затем, чтобы погибнуть от их руки и лечь между ними, по крайней мере, равный им в смерти.
А почти что за два десятка лет перед Грюнвальдом, в качестве молодого орденского брата, то есть монаха — но прежде всего, рыцаря — с гостями Ордена отправился я в первый свой рейд на Жмудь, под командованием комтура цу Шау. И шло с нами шесть гостей: пара рыцарей с Поморья, один мекленбуржец, один силезец, невероятно глупый саксонец, безумный француз, якобы, из Прованса, рассказывающий невероятнейшие враки о своих, якобы, приключениях: о том, как встретил он дракона, которого святой Георгий позабыл добить, или же о том, как схватили его великаны в горах Гарца, и как он сбежал от них только лишь благодаря хитроумной уловке: он забавлял их рассказами у костра так долго, что солнечный свет превратил всех их в камень. Еще он рассказывал о том, как при дворе польского короля-язычника едят сырое оленье мясо, и о том, что вавельский храм переделали в языческое капище, гонтину, чтобы чтить языческих божеств, в особенности же — богиню охоты Диану, так как литовские князья уж очень любят охоту. Вот эту последнюю историю он мог услышать уже у нас, в Пруссии.
И такие же красивые они были, даже тот французский врунишка, который, даже когда врал, делал это с таким рыцарским изяществом, что враки его были более благородными, чем правда, высказанная простолюдином или мною, кто был ни рыцарем, ни простолюдином. Хотя, понятное дело, простолюдины нам были нужны: нужны были нам наемные арбалетчики из Силезии и прусская легкая кавалерия, так что на восемь рыцарей припадало две сотни обычных кнехтов.
В общем, шли мы и пересекли границу, и я делал это мириады раз, как в Извечном Грюнвальде, когда в свите аантропных польских рыцарей шел в рейд на Германию, чтобы сжечь лебенсборн или перерезать какую-нибудь стратегическую артерию с Blut, чтобы отмер какой-нибудь Kreis, или же, как в чем-то, что могло в принципе даже быть моим истинным в-миру-пребыванием, когда в качестве наемного солдата на польской службе, опустошал я Пруссию, и потом: в семиградских отрядах, входящих в Малопольшу, или же в малопрльских отрядах, пересекших границу Семиградья.
Или же тогда, отделяю, когда в кунге "опель блитц" пересек я советско-германскую границу под Яновым Подляским, и нам не разрешили грабить систематическим образом, ни в коем случае по причине милосердия, но только лишь из предусмотрительности; ведь армия, которая систематически грабит и насилует, то есть — не тайком, очень быстро превращается в банду грабителей и насильников, которые неохотно слушают офицеров, а еще неохотнее — идут в бой. Так что нам не разрешили, но Einsatztruppen действовали интенсивно, как будто бы делая это и за нас, но когда в той же самой войне я ехал на похожем грузовике в другую сторону, на запад, так в какой-то момент насиловать и грабить нам было приказано, и уже все остальное было таким же, как и всегда: голодные, перепуганные дети с покрытыми сажей щеками, на которых светлые дорожки проделывают струйки слез, и горящие дома, и заброшенные дома, и выпотрошенные дома, с розовыми кишками одеял и перин, вытащенных из распоротых окон, и мертвые мужчины в очках с толстыми стеклами, мертвые, потому что лично я пронзил им грудь граненым штыком, и мертвые, потому что умерли в собственных глазах, когда они глядели, что мы творили с их женщинами; и те женщины, которых насилуешь не из похоти, а только из ненависти к мужчинам, которым эти женщины принадлежат. Похоть успокаивают иначе, с голодными женщинами, которые отдаются за хлеб и консервы: к этим женщинам прижимаешься, а они гладят своих насильников по голове, и среди них не встретишь Юдифи, так что они гладят своих насильников по головам так, словно бы гладили собственных мужей, которых уже нет в живых, так как их застрелили камрады того, кого держат они в объятьях; так что гладят они своих насильников так, будто глядят собственных сыновей, которых давно уже оплакали, а мы, солдаты в зеленых мундирах, в их объятиях прикрытые от взглядов коллег, неожиданно находим тепло и женскую нежность, и сладость, и мягкую кожу, даже если та грязная, и плачем по собственным матерям и женам, которые живы или нет, всегда далеко, и все это за половину буханки хлеба и банку консервов.