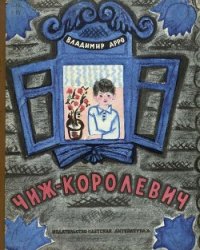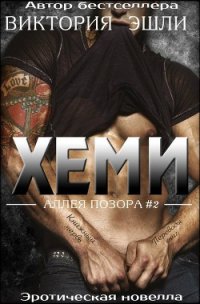Вечный Грюнвальд (ЛП) - Твардох Щепан (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
Перед бункером стояли два часовых с автоматами. Я показал им свой пропуск. Кёнигсегг стоял с боку. Я вопросительно глянул на него — тот пожал плечами и сказал по-польски:
— Туда каждый заходит сам.
Так что я зашел.
Когда-то, в извечном умирании, видел я монастырь Гандан в Урге, столице Монголии. Если войти в это белое, выполненное в тибетском стиле здание, то перед глазами входящего неожиданно появлялся гигантский, золотой ноготь на пальце ноги — и когда ты поднимал взгляд выше, оказывалось, что весь монастырь заполняла статуя Авалокитешвары, одного из бодхитсаттв Будды, выражающего милосердие Будды. Тогда я знал это очень хорошо, потому что ревностная вера в марксизм никак не мешала мне изучать буддизм, точно так же, как в моем вещевом мешке, помимо патронов к маузеру, всегда находилось местечко для книг, блокнотов и письменных принадлежностей. Как и подобает политруку.
Не могу я распутать этих фабул: быть может, стоя перед зданием с надписью Orden der Brüder das Dharma, я был тем же самым человеком, который двадцатью с лишним годами назад вошел в монастырб Гандау в Урге в качестве политрука, направленного в отряды Сухе-Батора [77]. Я их не отделяю. Хотя, наверняка, перед этим бункером стояло несколько Пашко: и те, что были в Урге двадцать с лишним лет назад, и те, которые не были, потому что еще не родились, но были и такие, которые были в Урге, но не встали перед стальными дверями бункера.
Во всяком случае, то, что расплетаю, отделяю очень легко и тщательно: входя в бункер, в котором распоряжался великий магистр Ордена Дхармы, по какой-то причине я ожидал увидеть нечто подобное: громадный зал, расписанный страшными буддийскими демонами, изображениями всяческих мук, людей, которых потрошат, или с которых сдирают шкуру, либо копулирующими в яб-юм [78] демонами, или же как раз громадную статую, либо же золотой трон под балдахином, а на троне — Великого Магистра.
Тем временем, когда охранник завел меня вовнутрь, я застал только темный, сырой коридор, освещенный зарешеченными лампочками, и по этому коридору меня провели в глубину бункера, где указали на стальные двери, покрашенные серой краской.
Я хотел спросить: мне следует постучать или прямо заходить, и что вообще сделать, но бурятское лицо охранника заставило меня считать, что он не будет говорить на каком-либо известном мне языке — так что я просто вошел.
Очутился я в секретарском, проходном помещении, в котором напротив входной двери находилась дверь, обитая глушащим звуки ковром, наверняка ведущая в кабинет. За гадким, выкрашенным масляной краской столом сидел светловолосый мужчина в гражданском костюме, на столе лежали кучи документов, здесь же примостилось несколько телефонных аппаратов.
Секретарь поглядел на меня, поднялся с места, указал на стул, на котором можно было присесть, поднял трубку телефона и по-немецки объявил мой приход.
— Хохмейстер примет вас немедленно, проходите, — отложив трубку, обратился он ко мне по-польски.
Я вошел. Великий Магистр сидел за письменным столом, выкрашенным той же краской, что и стол его секретаря. На шкафу висел серый монгольский дэли с черной свастикой, точно такой же, который носили солдаты; на самом же Великом Магистре был английский костюм из коричневого твида в елочку, с жилетом. Я подумал, что никакой англичанин не надел бы коричневый твид, засаживаясь за конторскую работу, но глава Ордена Дхармы вы этом костюме выглядел как-то совершенно к месту. Быть может это холодные стены бункера так и просили теплой, толстой шерсти.
Он поднялся из-за стола, подошел ко мне, протянул руку и без всяких церемоний представился на прекрасном немецком языке, в котором была слышна тень русского акцента:
— Хохмейстер Роман Николай Максимилиан Унгерн, барон фон Штернберг [79].
Так это и вправду он, совершенно не такой, чем я ожидал. А ожидал я встретить безумца, тирана, играющегося на золотом троне черепом побежденного врага. Но я знал всего один старый снимок барона, на котором можно было видеть худого мужчину тридцати лет с горящим взором — и было видно, как сильно он изменился: полысел, сильно округлился, ладони были ухоженными, полные щеки были гладко выбриты, от него не несло порохом и лошадью, но дорогим одеколоном.
И так оно все и началось: затем я давал присягу, потом были очищающие ритуалы, после них — тренировки, потом была служба, а после того все как-то стало рассыпаться, каждый делал что хотел, и двумя годами впоследствии я все так же оставался в чине полковника-комтура, но на практике давно уже сорвал эполеты и пытался выбраться из горящей машины на полях под Танненбергом, и я резал ремни ножом, и мне это не удалось, так что я плюнул и готовился к смерти, а броневые плиты корпуса разогревались, как будто бы кто-то желал меня постепенно испечь в жестяной банке.
Я приклеил глаза к горячему перископу: в визир я видел все так же медленно давящий почву флагманский сухопутный крейсер хохмейстера, "Гаутаму", последний из флота в пять ландкройзеров, которые должны были раздавить Европу; "Гаутама", серый как сталь, украшенный черными свастиками и синими молитвенными лентами. Среди языков пламени, в скрещивающихся потоках свинца ленты шевелились, вздымаемые ветром и теплым воздухом, поднимавшимся над разогретыми орудийными стволами. Постоянно бил размещенный на борту колокол, и из этого звука, из шевеления лент вздымались к небу молитвы:
— Санти, санти, санти, — пели ленты,
Санти, санти, санти, — звонил колокол.
Свят, свят, свят, Господь Бог Воинств,
Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Sabbaoth!
Гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи сваха.
И знал я, ибо видел это уже ранее: хохмейстер Штернберг сидел в средине, между машинным отделением и боевым мостиком, сидел голый, обрюзгший, и на его жирном теле младшие братья голубым пигментов нарисовали священные знаки, то есть: на груди чакрам Дхармы с восемью спицами, и третий глаз на лбу; и сидел хохмейстер Унгерн фон Штернберг, который был Буддой и бодхитсаттвой смерти и милосердия; и шептал хохмейсте свои бессловесные молитвы и размышлял о душах, плененных в кругу самсары, что покидают свои человеческие тела и не дано им будет достигнуть мокши [80], а только возвратятся они на землю жить в грехе и лжи, жить иллюзиями, будто бы жизнь обладает значением, будто бы мир имеет смысл, будто бы страдание можно преодолеть.
Сухопутный крейсер все время стрелял, стреляла носовая батарея и легкие пушки по борту, только известно было: серое чудище не переживет этой битвы, и Унгерн фон Штернберг погибнет под броней судна, потому что махновцев, поляков и большевиков поддерживала чешская авиация, а на поле битвы подлетали очередные эскадрильи пикирующих бомбардировщиков. В "Гаутаму" попали уже две бомбы, но, по счастью, они соскользнули по наклонной броне, и взрывы снесли лишь бортовые посты с бофорсами, а орудия, скрытые в казематах под броней все так же плевались огнем, разбивая большевистские полевые укрепления и убивая бойцов; и катился громадный "Гаутама" вперед на трех гусеницах, каждая из которых была шириной с deutsche Autobahn. Только судьба его уже была предрешена, у нас не было уже авиации, способной прогнать бомбардировщиков, никогда не было у нас толковой авиации, потому что Унгерн фон Штернберг в авиацию не верил, он считал ее чуждой евразийской душе, душе сухопутной, душе степи, коня, танка и ландкройзера. Так что авиацию он оставлял атлантической авиации, но сейчас не английские или ьам американские самолеты пикировали с воем сирен в сторону серого корпуса "Гаутамы", а штукасы [81] с чешским триколором на хвостах. Но еще стреляли носовые батареи, на мостике наводящий на цели фенрих все время прижимал глаза к окулярам дальномера, а офицер-артиллерист все время выкрикивал приказы в интерком, и снаряды толщиной с древесный ствол один за другим разбивали большевистские бункеры, в которых находились сейчас поляки и украинцы.