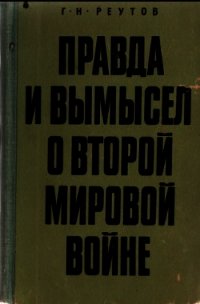Под Одним Солнцем (СИ) - Шалимов Александр Иванович (книги читать бесплатно без регистрации txt) 📗
В сотый, в тысячный раз прокручивал я в голове печальный и однообразный фильм «Моя работа за последние полтора года».
Сначала была мысль. Как и всякая мысль, она появилась маленькой, жалкой и беззащитной. Я даже не обратил на нее особого внимания. Но она росла, крепла, начала, наконец, стучать ножками в мою черепную коробку, требуя, чтоб ее заметили.
Мысль была довольно проста и не слишком оригинальна. Не успели в сороковых годах появиться первые американские электронно-вычислительные машины ЭНИАК, рьяные журналисты и популяризаторы поспешили назвать их искусственным мозгом. Но ни громоздкие ламповые ЭНИАКи, медлительные и капризные, ни их далекие потомки, в тысячи раз более стремительные и компактные, не имели никакого права называться думающими и разумными. Все они, в сущности, дети простого арифмометра. Несравненно более сложные, умеющие делать то, что и сниться не могло старым добрым канцелярским «Феликсам», но все равно отпрыски арифмометра. Потому что работать они могли только по заданной программе. Возьми это, сложи с тем, запомни то и так далее. Просто машины. Замечательные машины, но машины. Не менее, но и не более того.
Мысль, как я уже сказал, была проста. Собрать прибор на новых элементах — нейристорах, которые кое-чем напоминают нейроны мозга, прибор, относительно сравнимый по сложности с человеческим мозгом.
Нет, не думайте, что кто-нибудь точно знает, как устроен и как работает человеческий мозг. Только в общих чертах. Мысль заключалась в том, чтобы обучать наш прибор не набором жестких программ, а тем же методом, каким обучается ребенок. Надо обрушить на машину поток информации. Такой же информации, которая обрушивается на младенца с того момента, когда в нем впервые шевельнется жизнь. И тогда, может быть, не совсем ясным для нас образом машина начнет превращаться в искусственный мозг. В этом «может быть» и было все дело.
Мы собрали такой прибор, применив самые последние достижения миниатюризации. Впрочем, «мы» — это не совсем точно. Мы, то есть наша лаборатория, не смогли бы сконструировать подобный прибор даже за тысячу лет работы без выходных. А поскольку на такой энтузиазм рассчитывать было трудно, всю эту работу обидно легко проделала большая институтская ЭВМ. Другие машины собрали эту схему, и на свет появился наш прибор. Подобно любому прибору, личная жизнь которого не совсем ясна исследователю, мы относили его к категории так называемых черных ящиков. Но черным ящиком бедняга пробыл недолго. Очень скоро он получил имя Черного Яши. Кто именно первый окрестил его так, сказать невозможно. По меньшей мере двадцать человек претендовали на эту честь. Подчеркиваю: претендовали. Претендовали тогда, когда мы с минуты на минуту ожидали, что вот-вот Яшенька скажет «мама» или «папа».
Сегодня никто не настаивает на своих авторских правах, никто не интересуется Яшей. Потому что Яша молчит. Ребенок не удался. Это было печально, ибо даже самый неудачный ребенок ни в какой мере не бросает тень на метод его изготовления. Уродец же Яша убил мою идею.
Как я верил в него, в нашего Черного Яшу! Когда он впервые появился в нашей комнате номер триста шестнадцать, я не мог отойти от него. Я испытывал за него поистине отцовскую гордость. Он казался мне прекрасным: новая, без единой царапины панель, три глаза-объектива, придававших ему загадочный вид буддийского божества.
С бьющимся сердцем я включил Яшу в сеть. Засветилась контрольная лампочка, и наш первенец ожил. То есть мы решили, что он ожил. Ожила на самом деле только контрольная лампочка.
Мы все, разумеется, понимали, что даже в идеальном случае, если наши надежды сбудутся, пройдет какое-то время, пока Яша подаст хоть какие-нибудь признаки жизни. Но не верьте, что ученые обладают холодным и бесстрастным мозгом. Я не знаю людей, более склонных к детским фантазиям, людей, более увлекающихся и доверчивых. Строгие умы дают в лучшем случае великих классификаторов. Двигают науку только несолидные фантазеры. А я твердо рассчитывал двинуть науку. Да что двинуть — я собирался основательно протащить ее вперед.
Итак, мы включили Яшу в сеть. Если бы тут же застрекотал печатающий аппарат и мы прочли: «Привет, ребята», клянусь, я не был бы особенно поражен. Когда наяву уже составляешь речи для получения Нобелевской премии, можно ждать чего угодно: исчезновения силы тяжести, беседы с соседским эрделем Батаром о смысле жизни, наконец, появления нашего лаборанта Феденьки без его лилового галстука. В этом галстуке Федя делал у нас курсовую и дипломную работу, в этом галстуке был зачислен к нам в штат, в этом галстуке женился и, увы, развелся.
Но галстука Федя не снял, и мы, вздохнув, принялись воспитывать Яшу. Ни один ребенок в мире не подвергался такому интенсивному уходу. Учебные фильмы следовали один за другим. Особым распоряжением по своей группе я потребовал, чтобы никто не смел молчать более нескольких секунд, необходимых для того, чтобы набрать глоток воздуха в легкие. Во время разговора мы вначале невольно поворачивались в сторону Яшиных микрофонов, но потом привыкли не смотреть на него.
Мы учили Яшу грамоте и счету, рассказывали ему сказки и ссорились при нем. Однажды, когда Феденька не соизволил вечером прибрать свой стол, я утром устроил ему сцену. Может быть, оттого, что нервы мои были к тому времени уже почти на пределе, я кричал, визжал, топал ногами.
— Толя, — испуганно сказала Татьяна Николаевна, — при Яше, побойтесь Бога!
«При Яше»! Я сразу успокоился и невесело рассмеялся.
— Да я не обижаюсь, Анатолий Борисович, — мужественно пробормотал Феденька, хотя все в нем тряслось от обиды, в том числе губы и лиловый галстук. — Вы не волнуйтесь, может, он еще заговорит.
Мягкий душный комок плавно поднялся откуда-то снизу и остановился у меня в горле. Глупый, добрый Феденька, спасибо.
По вечерам я оставался один с Черным Яшей. Я садился перед его объективами и начинал рассказывать ему мою жизнь. Никогда никому, включая самого себя, не рассказывал я этих вещей. И не потому, что жизнь моя была полна жгучих или постыдных тайн. Просто кому интересен этот обычный осадок человеческой памяти?
Я рассказывал Яше, как полюбил в первом классе девочку а светлых кудряшках по имени Леся. Я любил ее страстно и пылко. Иногда на перемене я садился за ее парту, и сознание, что я сижу на ее месте, наполняло мою крошечную трепещущую душонку сладким и мучительным томлением. А потом, когда ее родители получили новую квартиру и Леся исчезла, отчаянию моему не было предела. Мир померк в моих глазах, потому что светлые кудряшки больше не крутились на третьей от учителя средней парте и не наполняли класс праздничным сиянием. Через месяц я не мог вспомнить ее фамилии.
Я рассказывал, как в четвертом классе меня выгнали из школы за то, что я в припадке какого-то безумного и хвастливого озорства открыл зимой окна и выморозил класс.
Учитель истории, взъерошенный и добрый человек с нелепой кличкой Такса (он часто повторял «так сказать», сливая слова), печально спросил, кто это сделал. Лихое озорство уже давно выветрилось из меня, мне было стыдно, неловко, страшно. Я мечтал повернуть время минут на двадцать назад, чтоб провести перемену более пристойным образом, но время не поворачивалось.
Я знал, что надо встать и сказать: «Это сделал я», — но позорная трусость опутала меня по рукам и ногам. Следствие продолжалось минут пять, а на шестой минуте Такса уже вел меня по коридору в кабинет директора. Со стен на нас смотрели классики русской литературы. Смотрели сурово и неодобрительно. Особенно хмурился Лев Толстой.
Такса молчал, и мне вдруг показалось, что если бы я решил убежать, он бы не погнался за мной. Но бежать было некуда, и я даже не пытался вырвать ладошку из шершавой ладони Таксы.
Когда директор Александр Иванович, вздохнув, сказал, чтобы я забрал свои вещи, шел домой и без родителей не приходил, я заплакал. Мне было стыдно, стыдно слез, но я не мог остановиться.
Я рассказывал Яше, как украл у своего товарища Эльки Прохорова одиннадцать марок. У него было безобразно много марок, у меня постыдно мало. В тот вечер он рассыпал по столу все свои дубликаты, которые мне не на что было выменять или купить. И безбожно хвастался богатством. Я прижимал к рассыпанным маркам рукава своего пиджака, марки прилипали к ним, и с бьющимся от сладкого ужаса сердцем я незаметно прятал их в карман. Мне было страшно, но, увы, вовсе не стыдно…