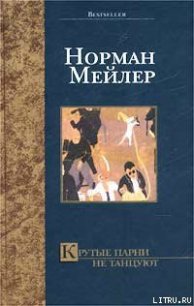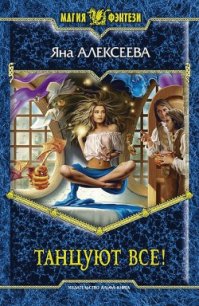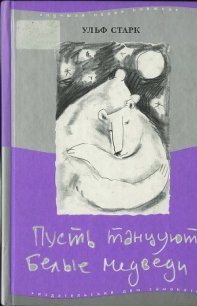Рыцарь умер дважды - Звонцова Екатерина (чтение книг TXT) 📗
— Эйриш! — снова Джейн зовет меня. — Пожалуйста…
— Прочь.
Я зажигаю над ладонью новый сгусток пламени, лилового. Вождь, напряженно наблюдая за мной, зажигает два ярко-зеленых — они бешено вращаются друг вокруг друга, отблески пляшут на потолке. Я должен опередить его, во что бы то ни стало. Это единственная мысль, единственное расплывчатое осознание: я наконец убью его. Я жил этим, это предрешено, и…
— Джейн! Стой!
Голос. Я слышу его впервые за много лет, слышу, и в голове оживают чужие сказки у костра. Мой рот сам болезненно кривится, зубы впиваются в губу. А Исчезающий Рыцарь уже между нами — стоит, раскинув руки, подобно Изувеченному Богу с креста. Пламя моего фиолетового шара пляшет на ее лице, зелень тех, что вьются над рукой Мэчитехьо, дрожит в волосах. Он шагает вперед. Но останавливается по велению легкого качания головы.
— Прекратите. — Отчетливо, как удар клинка. — Оба.
Джейн подступает ближе, еще ближе — теперь я смотрю только на ее босые ноги. Они впервые не сбиты в кровь, и вся она действительно другая. Я почти заворожен, почти понимаю, почему мой народ пошел за ней, почему вышивал на знаменах и одежде ее лицо. Но…
— Предательница.
Она не отшатывается.
— Никто. Никого. Не предавал, Эйриш. Никогда.
Я тоже делаю шаг. Она — не призрачная, воскрешенная — тянет руку. Еще немного, и она обожжется или вовсе сгорит, как солдат, чье лицо все еще в моей памяти. Но она не боится.
— Эйриш, он не враг. — Голос тише, мягче. — Ты должен узнать, зачем твой отец в ту ночь отправился на празднество, почему без тебя. В чаше… из которой должен был пить вождь, был яд. Он уцелел, когда…
«Как бы ты не увидел что-нибудь скверное». Слова с той стороны двери, в которую я колотил. Они ожили. Я должен закричать: «Молчи!». Но я не могу.
Джейн не заканчивает. И не нужно, как не нужно задаваться вопросом, не лжет ли она, не пытается ли сберечь жизнь своему любовнику, своему… спасителю, видимо, так. Да, мне не нужны доказательства: не нужен мешочек кореньев, которые отец всегда носил при себе, не нужна чаша. У меня есть сказка. Я рассказал ее сам.
Пламя гаснет. Силы оставили меня.
— И однажды отец сказал ему: «Если не перестанешь убегать, я убью всех друзей, с которыми ты играешь!» и убил первого друга. И второго. И третьего. И так раз за разом, пока не остался последний, самый старый друг. Король пришел к тому другу, а тот взял — и сам его убил. Рукой его были боги. Они не прощают неволящих и подлых.
Я говорю, глядя ей в глаза, и она бледнеет. Мой голос хрипнет и глохнет, то взлетает, то падает. На последнем обрывке последней фразы я понимаю, что смеюсь, а из глаз катятся бессильные, злые детские слезы. Конечно, Джейн. Я знаю, сам знаю. Спасибо. Всегда… знал?
Я оседаю на колени. Я не перестаю смеяться, смех выворачивает нутро. Ну же. Смотрите на глупого принца, заслужившего только гроб, смотрите все. Хлопайте, как его пустым мистериям, он это заслужил. Он тоже хлопает сам себе.
— Эйриш, не надо, так ведь… не должно было быть. Ничего. Нет…
Я начинаю падать, но, подступив, она вдруг обнимает меня, ласково шепчет: «Не должно… и не будет». Она юная, юнее меня; глупо думать подобное, но объятья похожи на материнские. Я склоняю голову ей на плечо, и ослабевает тугой узел в груди. Я совсем не знал родительских объятий. Но именно так иногда, в горестные ночи после отцовских наказаний, я их представлял.
— Ты не слышал меня, — тихо звучит рядом. Он тоже высится надо мной, зеленый огонь давно потух. — А потом и я перестал слышать тебя. Мне жаль.
Мне тоже, вождь. Я не был со своим народом, каравшим королевских убийц. Не был, но решил мстить, не за отца, а за свободу, которую потерял. Я обезумел… и безумен по-прежнему, потому что тогда не сказал и других слов, нужных и честных. Мне тоже есть, за что просить прощения. Оно уже ничего не изменит для мира, но, может, успокоит мою душу.
— А я видел в тебе того, кем ты мне не был, не обязан был быть. А потом ты превратил меня в того, кем я больше всего не хотел становиться. Я… возненавидел тебя. И потерял. Прости.
Вождь касается моих волос, проводит по ним ладонью. Он часто делал так у огня, когда я слушал, как храбрый воин Голубая Сойка с братом Диким Котом скитался по Лунным Землям и искал себе самую красивую невесту. Я говорил, что тоже сбежал бы, если бы было куда; Мэчитехьо отвечал, что мир огромен, но — горечь появлялась в голосе — нет ничего хуже, чем в конце концов понять: лучшим местом был дом. Дом… я вздрагиваю, оборачиваюсь. Мильтон и Эмма в стороне, не вмешиваются, и только теперь я вспоминаю: если у моего первого мира есть теперь шанс на покой, то второй умывается кровью. По моей вине.
— Что случилось? — Двое, мать и отец, каких у меня никогда не было, спрашивают это вместе. Я не успеваю ответить.
— Милая… я убила не только тебя. Звери… они там…
Кьори подступает на робкий шаг. Взгляд находит Джейн, чьи руки до сих пор касаются моих плеч. Лица обеих застывают: слова не должны были, не могли прозвучать здесь, сейчас. Джейн, тихо охнув, отворачивается, точно ей больно смотреть. Ей действительно больно.
— Оставь меня, Кьори, — звенит в тишине. — Оставь в покое…
— Оставлю! — почти вой, отчаянный и высокий.
Жрица отшатывается и хватает ветвь плюща, тянущуюся под волосами. С силой дергает, рвет и потерянно глядит на упавший зеленый завиток. Она забыла или не знает: полукровке недостаточно оборвать цветы или побеги, чтобы погибнуть. Это несет боль, но не смерть.
— Ты?..
Эмма вскрикивает, Джейн кидается к ней. Эмма вцепляется в нее и пятится, жмется подальше от жрицы, обессиленно оседающей на пол. Под ногами у сестер крошево камня. Расколотое изваяние, которое я теперь с легкостью узнаю. Второй Саркофаг — вот как воскресла Рыцарь. Та, которая теперь все-таки смотрит на Кьори поверх плеча сгорбленной Эммы, сбивчиво шепчущей: «Как же так? Как же…».
— Жанна! — зовет Кьори. — Я…
Джейн опять отводит глаза, гладит сестру по спине.
— Я не хочу Я… не могу. Пусть тебя прощает мой Бог, твои боги, кто угодно, но…
Кьори обрывает вторую ветку плюща и впивается в волосы. Качается, снова качается, что-то шепча, — маленькая, вмиг оказавшаяся безнадежно далеко от всех нас, окруживших ее.
— Убейте… — наконец различаю шепот. — Я молю, убейте меня наконец. Хоть кто-то…
Вождь плавно подступает к ней и касается лба ладонью, закрывая черные провалы глаз. Никто не успевает помешать, не успевает проронить ни слова. Жрица падает, но я вижу: она дышит. Маска страдания и безумия сходит с запрокинутого, залитого слезами лица.
— У нас нет времени на казни. — Как он владеет собой? Лишь в последнем слове отголосок ярости. — Пусть немного успокоится. Здесь ее никто не тронет.
«Даже я», — это отражается во вспыхнувших глазах, но гаснет, едва вождь поднимает голову. Он переводит встревоженный взгляд на выбитое окно, а потом на меня.
— Чувствуешь? Запах крови. Воля Омута…
— Мертва, — сдавленно подтверждает Эмма, так и не выпустившая из судорожной хватки сестру. — Мертва, и это, наверное, тоже из-за Кьори, теперь я понимаю…
— Мертва, — повторяет Мэчитехьо. — Других путей нет, по крайней мере, мне они неизвестны. А тебе, Эйриш?
Он глядит в ожидании, глядят все. Мне нечем обнадежить их: звездный путь тоже закрыт теперь, когда я не мертв. «Звериные» заперли нас. Как были заперты сами.
— Нет. — Я отвожу глаза от Мильтона и перешептывающихся, побледневших еще сильнее сестер. — Простите. Я… не хотел. Чего угодно, но не этого.
Сейчас, проиграв, я вдруг понимаю, чего действительно не хотел. Жить в Форте. Носить сияющий венец. Чтобы меня рисовали на картинах спасителем и возносили моления Звездам за мое воскрешение. Я не хотел ничего отсюда: отвращение к этим местам укоренилось во мне, и, даже жалея мой народ, я давно от него отрекся. Да. Я не хотел. И за воскрешение я готов был заплатить чем угодно, кроме места, которому давно принадлежу.