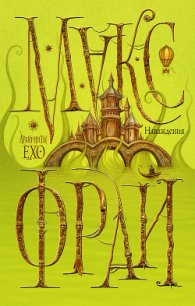78 - Элтанг Лена (прочитать книгу .TXT) 📗
Не заметили Тодора, не погубили.
Вкруговую на обожженной земле водили коло лесные ворожейки — зыны, вроде бабы, вроде лисы, вроде — журавли, вроде ящерки
Завлекали Тодора белыми руками, красными губами.
В смертный сон клонило парня. Маетно першило в горле.
Смотрит — посередь осенней пахоты дом пустой стоит, на семи ветрах сутулится.
Двери настежь, в горницах сухие листья, окна сослепу раззявил.
Вошел Тодор в пустой дом тяжелыми ногами, шляпу снял, поклонился от порога, в красный угол глянул, пошатнулся: взамен образов сова мертвая крестом распята, гвоздями за пестрые крылья в распял прибита, — глодали сову белые черви.
Черное место.
Вошел Тодор на свет в горницу — пуста горница, пауки углы заплели, половицы взбучились, плеснецой да погребом смердит.
Посреди горницы стоял стул венский. Весь тот стул от ножек до спинки зарос красным базиликом.
На стуле свечка мерцала, еле-еле душа в теле, огонек с ноготок, будто последний огонь на всей земле.
Повело на месте парня, маны да мороки голову помутили, кровь по жилам вспять полилась.
Взял Тодор свечку, и потянуло на стул присесть — скоротать может час, может год, посмотреть сны.
Вспыхнула свечка ярче, пламя пальцы облизало, восковая слеза скатилась — ледяной она была.
Больно сладко да ласково базилик пахнет, зимний сон навевает, смертны радости гостю сулит: ни о чем не горевать, беду не мыкать, сраму не иметь, тело смуглое покинуть, ни хлеба, ни любови, ни огня мертвому не надобно, баю-бай, спи-отдыхай, тлей-истлевай…
Уж стал опускаться Тодор на стул, как старик.
Мелко-дробно вбежал в горницу Яг, успел крикнуть:
— Давай, садись, рыжий! Сядешь на стул, обросший базиликом, окажешься на том свете!
Вздрогнул Тодор, опомнился.
Стул опрокинул, мертвецкая свечка вспыхнула злобно, да, смердя, в руках издохла.
— Бежим! — крикнул крыса.
Еле успели вон из пустого дома ноги унести. Оглянулся Тодор: стены перекосились, кровля провалилась. Сам дом сгинул, будто и не стоял вовсе.
Посадил Тодор крысу в горсть. Весь в грязи был Яг, лапы до крови истерты. Дрожал да топорщился, глаза-бусины отводил — совестился.
Простил его Тодор.
— Полезай в карман, грейся. Ты огня не знаешь, я огня не знаю. Бог все знает. Как-нибудь перебьемся.
Юркнул Яг в карман и притих до времени.
К утру Тодор снова вышел на тракт. Обгоняли его телеги да кареты почтовые.
Мелко-мелко первый снег посыпал — все, как есть, молоком заволокло. Проступило алым сквозь снежную крупу мглистое солнышко.
Крыса в кармане проснулся, тминными корками похрустел, острое рыльце выпростал вроде как подышать и говорит, между прочим:
— Так и быть, Тодор, признаюсь тебе, как на духу, кой-что я про огонь знаю. Раз воробьиной ночью подслушал: шли босиком во ржи цыганские боги. Впереди огненное колесо катилось. Чудно: жаром горело, по спицам до по ободу ползли языки огненные, искры сыпались в пляс круговертью, а дыму нет, ржаные колосья невредимы стояли, а над головой у богов бумажные голуби вились стаями. То не голуби были, а молитвы малые, которые до Христа не доходят. Знай: боги у вас огонь забрали. За так нипочем не отдадут.
— Почему? — спросил Тодор.
— Не почему, а за что — охотно откликнулся крыса — Где обида, там огня нет. Хуже смерти обида немая, лежит невыплаканная то ли в могиле, то ли в колыбели под двуглавой яблоней и долголикий Бог ту обиду день и ночь оплакивает. Про обиду цыганские боги все разом говорили, сердились, я толком не понял. Сам думай, Тодор.
— Где ж их искать-то теперь, цыганских богов, да и на что они годны, коль Христос есть?
— Христос Христом, а цыганские боги сами по себе. Они у Христа за пазухой жили, когда еще Он по земле ходил палестинской. И как-то раз Он наклонился воды испить из иордани, так цыганские боги у Него из-за пазухи наземь посыпались, и по всему свету расселились самосейкой, вас, дураков, сторожить. Одно я заметил точно: уходили боги напрямик через Холодное Дно.
В гору увела дорога. Котловина снежная под ногами клокотала сырыми туманами. Еле-еле видны были в пелене деревенские дворы, сараи справные, крыши черепичные.
На краю долины тлело под солнцем отравленное озеро — конца-края не видать.
Черно то озеро было, как зеркало гадальное — снег в нем гаснет, а берега голые, как баба.
А на том высоком, на озерном берегу поставлен был богатый барский дом, наборными окошками посверкивал, лимонными колерами самохвалился, крыша изукрашена была самоцветами, что павлиний глаз — с высоты глядеть — так будто игрушка детская, или ларчик колдовской.
— Час от часу не легче — покачал Тодор головой, расплескались по плечам рыжие кудри, словно струнный перебор. Снегом их запорошило, будто поседел враз молодой. — И где ж это твое Холодное Дно?
— Да вот же оно. Смотри-любуйся, пока глаза на месте, — невесело засмеялся Крыса и опять в карман усунулся, корки жрать.
Посмотрел Тодор из табора Борко, и впрямь увидел Холодное Дно.
Ай, лучше б он туда и не смотрел.
До вечера бродил Тодор от двора к двору.
Диву давался: заборы крепкие, ворота тесовые, замки кованые, засовы с капканами, а для пущей верности ворота суковатым поленом подперты.
Все по домам сидят сиднем, бабы у колодцев языками не чешут, мужики работу не правят, дети не играют, колокол церковный молчит, язык тряпьем обмотан, трубы не дымят, будто в этом краю никто сроду не работал и не праздновал.
Пусто да тихо, будто мор прошелся.
Чудная деревня Холодное Дно: все хаты, какую ни возьми — с краю.
Дошел Тодор до мельницы. В доме мельника на подоконнике пирог с капустой стынет. Сидит у окна мельничиха с подвязанной щекой и блох на вислогрудии под овечьей душегрейкой давит — развлекается.
— А нет ли работы, хозяюшка? — спросил Тодор.
Баба ему в ответ:
— Проваливай! У нас в Холодном Дне работы испокон веку нет, одни страхи страховидные делаются.
— Какие ж страхи, красавица? — спросил Тодор.
— А такие страхи, у которых глаза велики. Все люди, как люди, одни мы в Холодном Дне горе мыкаем. Видал дом барский на берегу? Барином у нас посажен Княжич проклятый из самой Столицы-города. Кровопивец. Езуит. Фармазон и миллионщик. Днем еще ничего, а к ночи — не будь помянут. Светопреставление творится, такое, что святых из церкви давно вынесли, в сарае держим от греха. Чужих не привечаем, хлебом не делимся, всяк у нас своим домком живет потихоньку. Не так плох Княжич, как его холуи да блюдолизы. Житья не стало от богохульников — даром жрут, горько пьют, девок перепортили. Всех как есть французскими духами в соблазн ввели. Были девки на деревне, одни мамзели остались. Слово за слово, пестом по столу промеж себя холуи княжеские мордоквасятся да куролесят, а иной день и нам тулумбасы от щедрот перепадают.
— Ишь ты, дело… — сказал Тодор — А сама-то ты Страшного Княжича хоть глазком видала?
— Никто его не видал. Он в барском доме сиднем сидит, как сыч поганый, хуже татарина. Говорят тебе — проклятый он. И батька его проклятый был и мамка проклятая и дед с бабкой — все они, до Адамова колена — анафемы!
— Раз не видали, чего ж боитесь?
— От, баранья твоя голова, да не так баранья, а совсем вареная! Кто ж виданного боится? — осерчала мельничиха, — Страх-то самый настоящий, коль невиданный.
— А не слыхала ли ты, матушка, есть ли у Княжича огонь?
— Все есть у Княжича! Все! И огонь, и вода и медные трубы! — тут в сердцах баба захлопнула ставни.
Тодор только широкими плечами пожал, рассмеялся и пошел напрямик к озеру, да к барскому дому.
В кармане Крыса забарахтался, заголосил:
— Жизнь не дорога? Тоже мне, цыган называется, зубы глупой бабе не заговорил, пирога с капустой не спер, а теперь в самое осиное гнездо нагишом лезет!
Тодор Яга не слушал, калину-малину в барском саду раздвигал.
Ворота гербовые вкривь и вкось повисли.