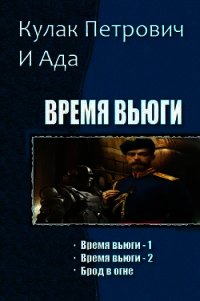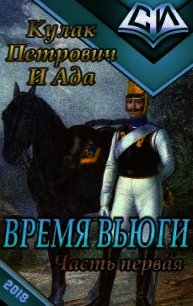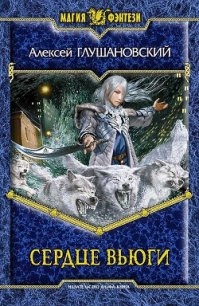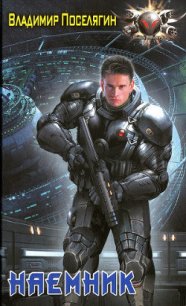Время Вьюги. Трилогия (СИ) - "Кулак Петрович И Ада" (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Сын имел приличные способности к языкам, отлично стрелял — даже слишком метко для дворянина, не могло это хорошо закончиться — и превосходно заводил врагов на ровном месте. Взвесив все за и против, Эльфрида сообщила ему, что военная стезя — его призвание. Каниану, в принципе, было глубоко все равно, по каким мишеням стрелять — по картонным или по живым, но живые казались интереснее тем, что двигались и могли пострелять по нему в ответ. Иргендвинд, по большому счету, даже особенным патриотизмом не отличался: он любил стрелять, а то, что стрелять надо на стороне людей под изумрудным флагом с двумя крылатыми волками, сильнее смахивающими на бесов из Темных веков — это данность, которую он принимал.
В пятнадцать лет ему неоткуда было знать, что никто наследника графа на настоящие боевые действия не отправит, а протирание штанов по офицерским клубам в Эфэле тоже входило в понятие «состоять в армии». Годам к восемнадцати Каниан окончательно сообразил, что его самым беспардонным образом превращают в типичного паркетного шаркуна, какими полнилась вся столица. С проплаченными заботливой маменькой погонами (на тот момент офицерские патенты сохранились только на территории Эфэла и позволяли приобрести чин до подполковника включительно, но Эльфриде оказалось не так уж и сложно добиться для сына небольшого исключения из правил) и вполне организованным будущим, а также с уже маячащей на горизонте страшенной великой герцогиней. И сбесился не на шутку. Из доступного арсенала для ответного удара у него имелось только умение заводить врагов, перекинувшись с незнакомцами тремя фразами, и способность метко стрелять навскидку. Оба этих таланта Каниан использовал на полную катушку, что за два года закрепило за ним репутацию законченного бретера и дуэлянта, может, и романтичную, но светским намерениям маменьки и бабушки мало способствующую.
Скандал в семействе вышел страшный. Отчим разумно не лез во взаимоотношения признанного, но неродного сына и Эльфриды и не становился на сторону последней, за что Каниан испытывал молчаливую благодарность. Конец конфликту младший Иргендвинд положил с чисто юношеской жестокостью: после того, как он при всем честном народе сперва спровоцировал одного генеральского внука довольно грязным намеком, а на дуэли застрелил на месте, ни о каком дальнейшем продвижении по карьерной лестнице в армии нечего было и думать — голову бы сохранить на плечах и ладно. Власть и деньги отчима защитили Каниана и от разжалования, и от тюрьмы — как-никак, король был Иргендвиндам должен и должен много, а потому смотрел на шалости незаконного отпрыска спокойно — но чин полковника так и остался его личной наивысшей планкой, до которой мать всеми правдами и неправдами дотащила его к двадцати с небольшим. Каниан нисколько не расстроился. Он на год уехал в империю, чтобы страсти поутихли, и вернулся оттуда с неплохим разговорным аэрди, самым дорогим на все королевство оптическим прицелом, судя по всему, каким-то попустительством северных богов переправленным с Дэм-Вельды, и твердым желанием осесть где-нибудь подальше от всех столиц и поближе к горам. Мать, ясное дело, слушать об этом ничего не хотела, очень натурально хваталась за сердце и оседала на пол, но Каниан в сказки не верил. Тем поразительнее был тот факт, что у железной феи рода Иргендвиндов действительно оказалось слабое сердце, а может — какой-то синтетический яд в пище, вот уж там тоже было не разобраться. Эльфрида одним утром просто упала в гостиной, а к моменту, когда примчался семейный доктор, уже не дышала. Ирэна рыдала в спальне, притихшие Инесс и Альма шушукались о чем-то у себя, а Каниан и отчим удивленно смотрели друг на друга, как будто впервые заметив один другого. И оба думали о долговых расписках в дубовом ларчике. При жизни Эльфриды эти расписки выступали гарантией их безопасности, но с ее смертью отношение венценосца к проблеме могло измениться.
Изменилось оно и вправду быстро. Не минуло месяца, как Эльфриду пышно похоронили в одном из красивейших соборов столицы, а в парламент уже протащили крайне невыгодный Иргендвиндам закон о снижении пошлин, и король, в чьей власти было этому помешать, палец о палец не ударил, хотя раньше интересы их семьи соблюдал. Чтобы понять, что ничего хорошего дальше не произойдет, большого ума не требовалось. Глава рода еще верил, что колесо можно раскрутить в обратную сторону, а Каниан уже прекрасно понимал, что нужно брать винтовку и удирать в Аэрдис или любую другую страну цивилизованного мира, где наличие денег гарантировало отсутствие проблем. Как только Эльфрида умерла, они с Ирэной перестали быть детьми когда-то любимой королем женщины и превратились в опасный «побочный продукт», а граф Иргендвинд из человека, прикрывшего грешки венценосца — просто в неудобного кредитора. Надо отдать должное графу, даже после этих печальных метаморфоз он не указал Каниану на дверь, хотя, возможно, имейся у него в запасе родные сыновья, все и прошло бы несколько иначе. Девочки в Эфэле наследовали с массой оговорок, и Каниан, при всей его сомнительной родословной и еще более сомнительной репутации, был лучше, чем имущество, отошедшее младшему брату, уже потирающему руки в надежде на солидный куш.
Последний год Каниан вел типичное существование богатого наследника — карты, любовницы, моря игристого, редкие дуэли без смертельного исхода — дурная слава прошлых лет работала на него, заставляя окружающих спускать ему большие вольности, чем спустили бы другому — и вроде бы вполне определенное будущее. Это было не то чтобы плохо, но смертельно скучно. Пожалуй, в Эфэле Каниана держало только смутное уважение к человеку, давшему ему свою фамилию — о причинах судить не его ума дело — но к лету ему захотелось не то что уехать, а просто сбежать и никогда не возвращаться. В случае Каниана романтичное «никогда» он мог при большом старании превратить в пару месяцев, что и сделал, укатив на виарский курорт с самой модной столичной балериной, разорвавшей ради этой поездки контракт с театром. С курортом он, в принципе, не ошибся, место оказалось сказочное, хоть и частенько посещаемое калладцами, которых Каниан, выросший в доме поклонников империи, не любил в силу привычки, а не каких-то убеждений. Но вот с балериной промахнулся здорово. Изольда, конечно, располагала всеми достоинствами, нужными танцовщице, выступающей перед венценосным семейством, однако на этом хорошее заканчивалось. Обладательница ангельского лица, легкого стана и умения выделывать совершенно невероятные па в различных жизненных декорациях, она скандалила, пила как кавалерист, ревновала его к каждой юбке, проходящей мимо, и закатывала сцены, ярко напоминающие не королевский театр, а захолустное варьете. В хорошем обществе было не принято одалживать у театров жемчужины перед сезоном, а потом возвращать их досрочно с компенсацией и извинениями, Каниан же, при всех его недостатках, какой-то набор понятий о светских приличиях имел, поэтому честно терпел ранимую артистку два с лишним месяца.
Впрочем, по сравнению со всем, что случилось с ним после возвращения на родину, Изольда казалась подарком небес. Забег Каниана от судьбы, с которой ему впервые в жизни сильно захотелось поспорить, начался в прихожей собственного дома, где без сознания лежала на полу родная сестра, а из темноты целились убийцы, пришедшие по его душу. Имел промежуточную остановку на колокольне, с которой он без лишних сантиментов снял из винтовки короля и наследного принца, мимоходом втянув Эфэл в войну и не заметив этого. Затем продолжился по приграничным болотам и едва не закончился в захолустном клоповнике, но тут его догнали те, кто побежал по той же дистанции, но с небольшим опозданием.
Дальше Каниан не помнил практически ничего. Тиф свалил его почти на месяц, и этот месяц он провел не столько в комнате без окон, где сильно пахло лекарствами, сколько на берегах Слез Ириады, или в своем родном доме десятилетней давности, или даже на виарском ночном пляже — в общем, где-то по границе бреда и реальности. Каниан видел то какие-то обрывочные воспоминания, то низкий потолок, плавящийся под взглядом, и тусклый, далекий-далекий огонек масляной лампы. Лица врача он не помнил, как не помнил лиц тех, кто еще приходил. Разговоры были примерно одинаковые «Еще жив? — Еще жив. — Оклемается? — Делаем все возможное». Все возможное, наверное, и вправду сделали, потому что к концу второй недели он стал видеть потолок чаще, чем туманную муть, правда, видел его все равно плохо. Больше всего Каниан боялся, что после тифа у него ухудшится зрение — такие случаи бывали довольно часто — как будто наличие острого зрения еще могло пригодиться ему в жизни, и вообще впереди лежала какая-то жизнь. Никакой жизни впереди, конечно, лежать не могло, а было там ровно столько времени, сколько потребовалось бы молодчикам с военной выправкой, чтобы получить нужную информацию. За одной маленькой оговоркой — Каниан искомой информацией просто не владел. Он мог запросто рассказать, как и зачем застрелил короля, но не то, где сейчас находится дубовая шкатулка с расписками и векселями.