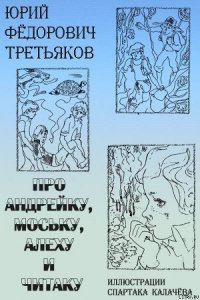Мнемосина (СИ) - Дьяченко Наталья (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
— Не возвращайтесь! Не ходите туда, Микаэль!
Неоднократно на войне я становился свидетелем тому, как в минуту опасности к людям, неожиданное и яркое, приходило прозрение. По этому «не ходите туда» я понял, что Януся говорит вовсе не об отъезде из Мнемотеррии. Она догадалась об уплаченной мною цене.
Я смотрел в ее голубые глаза в стрелах слипшихся от слез ресниц, смотрел на высокий, обрамленный темными кудряшками лоб, на мягкий абрис ее лица, на изящную линию губ. Она была моим сердцем, моею душой. Я смотрел на нее, зная, что она будет принадлежать другому, и даже образ ее у меня отнимут, но не смотреть было превыше моих сил. Со всей мыслимой нежностью я стер подушечками пальцев слезы, что сбегали по щекам Януси. Стоя среди осколков собственной жизни, я нашел в себе силы утешить ее:
— Не могу, Януся, я дал слово, слово офицера и дворянина. Но вам нет нужды печалиться, я убежден, у вас все сложится наилучшим образом, — я осторожно расцепил пальцы девушки и оторвал их от своего мундира. — Прощайте! Не поминайте лихом!
Отсалютовав, твердым шагом я вышел из комнаты, а затем и из Небесного чертога. Я шел в Oblivion.
[1] Басон — шерстяная тесьма для нашивок.
1 Бастон — шерстяная тесьма для нашивок.
XVII. Иван Федорович и Николай Ильич. Расставания и расстояния
XVII. Иван Федорович и Николай Ильич. Расставания и расстояния
Зачем ты просишь новых впечатлений
И новых бурь, пытливая душа?
Не обольщайся призраком покоя:
Бывает жизнь обманчива на вид.
Настанет час, и утро роковое
Твои мечты, сверкая, ослепит.
Николай Заболоцкий
Когда Николай Ильич перевернул последнюю страницу дневника, за окнами уже начало светать. Серый и робкий, с небес спускался рассвет, шел через дальние туманные поля, крался по темному парку, очерчивал контуры черемуховых ветвей близ окна и сочился в комнату сквозь стекло. Николай Ильич долго вглядывался в пробуждающийся мир, погруженный в собственные думы, столь же неясные и зыбкие пока, как этот рассвет, а затем покойно, как ребенок, смежил веки и от состояния бодрствования разом обратился в состояние сна, которое мало чем отличалась от предыдущего, по крайней мере, мысли Николая Ильича оставались все теми же, приобретя лишь более зримое воплощение и облекшись запахами и звуками.
Отставной военный видел во сне Мнемотеррию — страну высоких гор и кипучих рек, видел Обливион и быстрый Селемн с цветущими яблонями по берегам. Возле реки, у самой границы мира снов, стояла худенькая темноволосая девушка в платье цвета утренней зари и синей шали, затканной серебряными маками. Далекая и близкая одновременно, как никогда не случается наяву, но частенько бывает во снах, она была исполнена неизъяснимой пленительной нежности. Ее огромные глаза полночной синевы отражали горы, и реку, и яблоневый цвет, кожа была млечно-белой, как поднимавшийся от реки туман, и сама она казалась точно вышедшей из этого колышашегося марева и при любом неосторожном движении вновь готовой раствориться в нем. Откуда-то издалека, гулкие и мерные, ровно удары колокола, наплывали стихотворные строки. Во сне стихи были накрепко спаяны рифмой, но после того, как они отзвучали, Николай Ильич не смог вспомнить ни слова, в памяти осел лишь четкий, почти маршевый ритм да едва уловимое веяние крыл музы, мельком пролетевшей мимо. А может, то был просто ветерок, что колебал кисти шали на плечах девушки и пряди ее темных волос.
Верный армейской дисциплине, Николай Ильич проспал не более пары часов, а затем пробудился рано, как приспособился за долгие годы военной службы. Зная, что и дядя — жаворонок, Николай Ильич спустился в гостиную, надеясь застать его там. И верно, Иван Федорович уже пил свой утренний кофе из любимой чашки с щербинкой, будучи таким же, как племянник, рабом давно устоявшегося распорядка, только в его случае не навязанного извне, а сложенного им самим.
Профессор Бережной прибран был по-домашнему: в барском халате из темно-алого бархата с шелковым воротником, в разношенных туфлях без задников, в пенсне с толстыми стеклами. Перед ним, на расшитой фазанами скатерти, с опорой на массивную сахарницу стояла раскрытая книга, на полях которой профессор, не чинясь, делал заметки карандашом. Заслышав шаги, он поднял голову и молвил:
— Доброе утро! Рад видеть вас. Признаться, книга оказалась не столь интересной, сколь можно было ожидать, поэтому я с удовольствием воспользуюсь вашим приходом как поводом избавиться от сей тягомотины. Как вам спалось?
— Вы шутите? Вы вручили мне этот дневник, — племянник также, как и дядя, положил на чайный столик тетрадь в кожаном переплете, полученную им вчера, — и полагаете, будто демон любопытства позволит мне смежить веки? Стоило лишь раскрыть его, как я тотчас пропал между страницами и не обрел себя до тех, пока не завершил чтение.
Николай Ильич взял жестяной высокий кофейник и наполнил себе чашку, как любил — по золоченый ободок. Кофе обжигал губы, по чему племянник рассудил, что поднялся немногим позже дяди.
— Что ж, иного я и не ждал. Я сам, едва заполучив рукопись, был буквально парализован, так хотелось мне знать, чем все разрешится.
— Разрешится? Но ведь история обрывается на самом интересном месте! Как сложилось дальнейшая судьба героев? Что стало с Январой, с Лизандром и Лигеей, с самим Михаилом?
Профессор Бережной потянулся к молочнику и разбавил свой густой кофе не менее густыми сливками. Неторопливо отхлебнул, покатал получившийся напиток на языке, а затем отвечал:
— Зная людей и имея некоторое представление о законах, правящих этим миром, я легко могу домыслить окончание. Ни добро, ни зло не воздаются по заслугам, сколько бы священники не пытались убедить нас в обратном. В жизни все подчинено причинам и следствиям, а не некой абстрактной справедливости. Да и что есть справедливость, как не наше желание уравновесить добро и зло? А ведь и они тоже суть выдуманные нами понятия, имеющие значение для нас самих, но безразличные природе, которая существует вне изобретенных нами категорий, по собственным правилам. Смерть семени есть начало жизни цветка, гибель добычи непременное условие существования хищника, да и сами мы, если верить ученым, сложены элементами, родившимися в сердце умерших звезд. И где здесь добро, где зло? Оставив полвека за плечами, я успел уяснить, что искренние душевные порывы чаще всего пропадают втуне. Полагаю, Январа сделалась княгиней, как того и желала, стена осталась на том же самом месте, где стояла испокон веков, а за стеной навсегда затерялся автор сей рукописи.
— Но будь так, ни вы, ни я не узнали бы его истории! — с жаром возразил племянник на рассудочные речи дяди.
Нимало не убежденный сим аргументом, профессор Бережной пожал плечами и вновь отхлебнул кофе:
— Существует много путей, какими дневник мог к нам попасть. Даже исключая тот факт, что от начала до конца он может быть вымыслом. Хотя я все же поставлю на его достоверность.
Вспомнив представший ему во сне образ, Николай Ильич почувствовал себя обязанным вступиться за Январу:
— У меня сложилось впечатление, что Януся разделяла чувства Михаила. Отчего вы полагаете, будто она желала брака с Магнатским, а не просто примирилась с ним под влиянием обстоятельств?
Этот довод также не произвел на Ивана Федоровича впечатления. У профессора уже имелось собственное мнение, не столь снисходительное:
У Январы была возможность повернуть ситуацию вспять. Это мужчина связан данным словом, к обещаниям женщины общество относится куда снисходительнее. Она могла расторгнуть помолвку после того, как Михаил сказал, что оплатил долги их семьи, однако предпочла оставить все, как есть. Сдается мне, Январа не любила Михаила. Бесспорно, она была им очарована, восхищена ореолом воинской доблести, покорена оказываемыми им знаками внимания. Но можно ли называть это любовью? Хотя я вполне допускаю, что она могла обманываться относительно собственных чувств. Люди жаждут любви, ищут ее, связывают с ней счастье, но каждый понимает под ней совершенно различное. История знает немало тому примеров — Петрарка ради любви писал сонеты, а Менелай развязал войну, в которой погибли тысячи людей. Я много думал о том, что есть любовь, и теперь готов поделиться с вами итогом своих размышлений. Если Александр Павлович уподоблял любовь алмазу, то мне она кажется сродни увеличительному стеклу. Она не возвышает, как принято считать, а лишь усиливает качества, уже имеющиеся в человеке: натуры мелочные любят расчетливо, эгоистично, а честные и порядочные в этом чувстве и впрямь возносятся до небес. Для любви не важен предмет, она проистекает из души человеческой, из свойств личности и это роднит ее с верой, которая, по глубокому моему убеждению, также не отражает действительного положения вещей, а исключительно является свойством человеческой натуры.