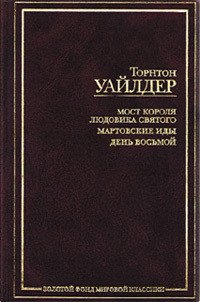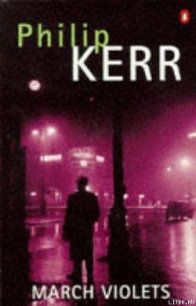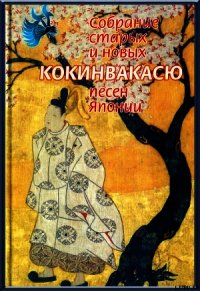Мартовские дни (СИ) - Старк Джерри (мир книг TXT) 📗
Никто не врывался к городской страже, чтобы, задыхаясь от давящего сердце страха, умолять о помощи в розысках пропавшего родича. Люди по-прежнему покидали этот мир, отправляясь на погост, но кончина их была обыденной и привычной — старость да болезни.
Протальник или мартус, как его величали в церковных книгах, заканчивался, готовясь смениться первоцветом, он же апрелий. Долгий месяц тающих снегов, холодных дождей, новых знакомств, душевной сумятицы и загадок, к которым так и не удалось сыскать ответа.
Оклемавшиеся и опамятовавшиеся мальчишки сумели поведать о себе и своем горе-злосчастье. Тихий чернявый пацан, смахивавший обликом на закручинившуюся девицу, звался Йосифом и был родом с торгового иудейского подворья. Его более бойкого и неунывающего белобрысого сотоварища по заточению кликали Жданчиком. Отец мальчишки содержал большую шорную лавку в Доброй слободе, и Пересвет вздумал самолично возвернуть пропажу отчаявшимся родителям.
Царевич навсегда запомнил женщину, безмолвной белой птицей слетевшую с резного крыльца навстречу въехавшему на широкий двор всаднику. Вертко соскользнувший с высоты конской спины Жданчик тонко и пронзительно выкрикнул: «Ма-ам!..», прежде чем женщина обхватила его и судорожно притиснула к себе.
К матери и сыну со всех сторон бежали домочадцы и бросившие работу мастеровые, сломя голову, бежал отец Жданчика, а женщина стояла, поверх растрепанной макушки сына глядя на Пересвета. Она не рыдала, ее прозрачно-серый взгляд пылал таким сухим, испепеляющим жаром, что царевич невольно поежился. Подумав, что, укажи он этой хрупкой, истончившейся от страданий, тревоги и неизвестности женщине на виновника бед ее ребенка, тот забился бы в неодолимом ужасе пред ликом карающей Мораны-Смертушки во плоти.
— Ваш сын растет достойным и отважным, — неловко выговорил царевич в ответ на разноголосые благодарности и благословения, сыпавшиеся на него со всех сторон. Невесть отчего ощущая себя наглецом, пытающимся урвать кусочек чужой славы. Кириамэ поднял бы его на смех, заявив, что любой подвиг вассала служит вящему прославлению имени дома его господина. А раз Гардиано вроде как принят на службу Тридевятому царству, то все хорошее и полезное, совершенное им, зачтется Пересвету. — Берегите его. Не испытывайте расспросами, хорошо? Он снова с вами, чего еще желать…
Отец Жданчика, сграбастав в объятия безмолвную супругу и верещащего сына, истово закивал. Судя по напряженной физиономии, мастеровой был готов самое жизнь отдать по первому слову царского отпрыска. Мальчишка вывернулся из-под материнского локтя, требовательно наставил палец на царевича:
— Дяденьке ромею мой нижайший поклон. Скажи, я непременно приду его проведать… как только батюшка со двора отпустит!
— Приходи, — согласился Пересвет. — Конечно же. Он будет тебя ждать. И мы будем. Удачи тебе.
Он выехал со двора, где наперебой галдели и голосили обрадованные люди, где каждый рвался прикоснуться к хозяйскому сыну и убедиться — тот, кого они считали умершим и оплакивали в сердце своем, вернулся. Месяц-другой, и к концу лета былое, вытесненное хлопотами и заботами, уйдет в прошлое, смоется речными волнами. Детская память коротка и сама исцеляет себя. Жданчик забудет темный подпол, цепи на руках, песий ошейник и то, о чем он тихонько, запинаясь, поведал царевичу в мирном, защищённом уюте горницы государева терема.
— …Как он меня стащил вниз и привязал, я как в беспамятстве каком был. Все вижу, а ни заорать не могу, ни рукой-ногой волохнуть. Это потом я смикитил дурачком прикинуться. За ухи меня и прежде драли, бывало, что и за дело. Простого ухокрута стерпеть, это раз плюнуть. Я слюну пускал, лыбился до ушей да гыгыкал, когда он меня пинал, ему вскоре и прискучило. А присунуть мне никак у него не выходило, как он не старался. Я и Оську пытался подучить, но тот ни в какую. Вроде такой умник с виду, а уверовал, коли будет шёлковым да послушным, его отпустят. Как же, держи карман шире. Любаня тож хотела сперва подлизаться, а потом треснуть злыдня чем потяжелее да драпать за помощью. Почти вышло, да только она слишком рано замахнулась. Он ее придушил и прикопал там же, в уголку. А вот Оська ему сильно полюбился. Он его заставил вирши наизусть затвердить, жалостливые. Если Оська хорошо читал, со слезой, этот гад его за задницу не прихватывал и не бил. Только уд свой ему в рот запихивал, пока Оська реветь не начинал. Заталкивает, а сам таращится, бельма мутные, и повторяет, мол, ты мой личный маленький Гай, теперь ты никуда не сбежишь, и нам будет хорошо… Почему он так Оську прозвал, а? Ведь Гай — это же вашего друга имя, того, который за нами полез, да?
— Затем, что умом тронулся, — как можно внушительнее разъяснил царевич. — Тебе про то думать не надо. И помнить не стоит. Это как дурной сон — расскажешь и позабудешь. Было да прошло, и больше никогда не повторится.
— Обещаешь?
— Царское слово даю, — «и никогда не скажу Гардиано, как спятивший от похоти и ненависти книжник звал смазливого пацана его именем. Темноволосого и темноглазого мальчишку, умеющего слету запоминать вирши. Боги, куда же вы смотрели, когда не зверь, а человек вытворял такое?»
Мысль, как усталая кляча, влекущая тяжелую телегу по глубоко наезженной колее, свернула к тому, что не раз приходило царевичу на ум.
«Когда я возвращался от ромалы, был поздний вечер. Я постучался в книжную давку. Надеялся, кто-нибудь из сидельцев переведет мне вирши с латинянского. Он открыл, как ни в чем не бывало. Дети были внизу. Все это время пропавшие дети были внизу. Может, он сполз с бедной спятившей Алёны, оправился и вышел глянуть, кто там у дверей. Мы разговаривали о тонкостях переложения виршей с одного наречия на другое, стоя над головами похищенных детей…»
Горло внезапно до отказа наполнилось кислой, прогорклой желчью, хлынувшей из глубин судорожно сжавшегося желудка. Пересвет едва успел свеситься вбок, как его неудержимо и обильно вывернуло. Съеденное с утра и нещадно извергнутое неопрятной дымящейся кучкой шлепнулось в грязь, под копыта настороженно переступавшей с ноги на ногу смирной кобылки. Мельком Пересвет успел порадоваться, как вовремя съехал со двора Жданчикового родителя и заворотил в безлюдный проулок. Никто не увидит, как царский наследник давится комковатой блевотой от отвращения к человеческой мерзости.
«Он ведь казался самым обычным человеком. Мы вместе слушали его рассказ, и Кириамэ тоже ровным счетом ничего не заподозрил, — Пересвет ладонями утер рот и лицо, ощутив выступившую на коже холодную испарину. — Просто один из служителей в книжной лавке. Неужели всякий и каждый из живущих способен перекинуться эдаким оборотнем? Как жить, не доверяя никому, сомневаясь в каждом слове, денно и нощно следя за всяким шагом твоих близких? Я так не смогу. Просто свихнусь. Люди… люди, они, конечно, всякие и разные попадаются, но в общем-то неплохие… А этот… Он просто выучился хорошо притворяться. Мануций, на которого он столько лет работал, ничего про него не знал…»
Всполошившийся владелец книжной лавки примчался на резкую перекличку жестяных свистулек городской стражи и разгоревшееся шумство во дворике поназади «Златого слова». К тому времени явившиеся на зов дружинные успели раздобыть пару телег. В одну посадили спасенных мальчишек и бережно перенесли старавшегося не утратить сознание Гардиано, в другую бросили обеспамятевшего и на всякий случай связанного по руками и ногам убийцу, и затолкали озлобленно клацавшую на всех зубами полубезумную Алёну. Сбледнувший в цвет прокисшей сметаны почтенный Мануций, растерянный и перепуганный, курицей с отрубленной башкой метался у всех под ногами. Искательно заглядывал в лица Кириамэ и Пересвету, плачуще клянясь именами старых и новых богов, мол, понятия не имел о том, что за душой у одного из его работников. Аврелий который год тихо жил в пристройке, гостей не водил, разве что заполночь частенько засиживался. Говорил, читает, переводит али книгу редкую какую переписывает. Занятые дружинные мимоходом отпихивали Мануция в сторону. Он возвращался, робко и смятенно тянул нихонского принца за длинный рукав косодэ, привлекая внимание, и сызнова заводил причитания о своей невиновности и непричастности.