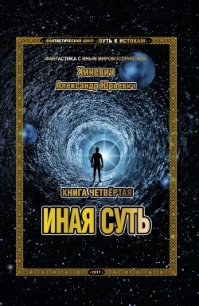Иная судьба. Книга I (СИ) - Горбачева Вероника Вячеславовна (читаем бесплатно книги полностью TXT) 📗
— Веруешь ли, сын мой?
Более неуместного вопроса в пустыне, на горячем песке да с дыркой в животе, представить было невозможно.
Отряд рыцарей, брошенный королём Филиппом Вторым на выручку Арагонскому соседу, был вырезан до единого человека. Мавры напали на лагерь подло, ночью… Впрочем, и рыцари, к стыду юного Бенедикта де Труайяля, вели себя далеко не в соответствии с гордым званием, когда три дня назад, в священный для мусульман день пятницу, вышибли неверных из Теруаля. Вышибли — не то слово: поселение было разорено, пленные повешены, пленницы… Несмотря на молодость, Бенедикт повидал многое, но что б такое… Немногих, оставшихся в живых, разобрали для утех. Победа была быстрая, кровопролитная и… постыдная, как в глубине души считал Труайяль. В чём здесь подвиг? В том, что иноверцев застали врасплох, на молитве? Как мог отец Гуго благословить на подобное? «Не будет урона рыцарской чести — помешать гнусному служению язычников», — вещал он, подготавливая паству к штурму. «Доблестный рыцарь должен блюсти обеты чести лишь перед себе подобными и своим королём. Во имя Святой Церкви — благословляю! Исполните ваш долг!»
И почему-то никто не вспоминал, что местечко Теруаль испокон веков было арабским, мавров из него вышибли лет пять назад и устроили форпост на границе с эмиратом. Но вождь Аббас-аль-Хаид собрал богатый выкуп — не только за своих воинов, но и за город, и Тируэль вновь стал Теруалем, и за несколько лет расцвёл, оброс минаретами и часовнями, и жили в нём бок о бок и арабы, и христиане, и иудеи… Из уважения к верованиям соседей в городке было три дня, в которые жители не обременяли себя трудами и судебными разбирательствами: пятница, суббота и воскресенье.
И почему-то в эту роковую пятницу разгорячённым в бою латникам было всё равно, кого рубить — темнокожего или белокожего, в тюрбане или с непокрытой светлокудрой головой — разили одинаково всех. И женщин не жалели — тащили из укрытий и валили на землю, невзирая на то, к кому они взывали — к Аллаху или к Богородице.
И храмы грабили так же рьяно, как и мечети. Ибо, хрипел отец Гуго, с пеной на губах отрывая золотое распятье от двери часовни, что тот, кто терпит бок о бок неверных — опоганился и всю свою благодать растерял, и скверна на нём, и на жилище его, и на молельном доме его…
Нет, не о такой славе грезилось ещё не так давно Бенедикту, когда напросился он добровольцем в отряд королевских Белых Рыцарей. Не о таких подвигах. Сражаться мужчине против мужчины, воину против воина — это доблесть. А то, что творили его сотоварищи — хоть и не поворачивался язык, но хотелось назвать подлостью.
Поэтому, когда застали их ночью врасплох — ибо даже часовые упились забродившим от горячего Арагонского солнца молодым вином — когда почти не пивший, так, лишь бы дурные мысли заглушить, де Труайяль отбивался от четверых мавров голыми руками, благо Господь силой не обидел, когда обожгло ему сперва плечо, потом бедро, потом полоснуло по брюху, когда мир перевернулся — и одна из мерзких рож нападавших оказалась почему-то высоко над ним и смачно плюнула в лицо… Мысль, зревшая где-то на окраине сознания всё это время, наконец-то оформилась.
Всё правильно, отрешённо подумал он. И лишь коротко выдохнул, когда ногой в мягком сапожке ему заехали под ребро. Взглянул снизу вверх на злобно дышащего мавра, и плевок не стёр, потому что — заслужил. Всё правильно. Поделом. Так нам и надо.
Горла уже коснулась сталь, и с каким-то облегчением Бенедикт подумал: всё, конец. Но желанной быстрой смерти так и не получил. Чужеземный воин быстро проговорил что-то на гортанном наречии и вдруг усмехнулся. Поверженному гяуру связали руки и ноги и оставили — умирать. Или от потери крови, или от палящего солнца, если дотянет — до рассвета оставалось ещё долго.
Рядом добивали бывших товарищей, ругался непотребными словами, затем дико заорал капеллан, ему вторил узнаваемый, а после сорвавшийся на бабий визг голос Клода де Муа, командира отряда. Ветер донёс запах горелой плоти. Правильно, отчего-то снова подумал Бенедикт. Хоть и грех это — думать так о… единоверцах, о тех, с кем бок о бок провёл столько лье в дороге, мечом махал в сражениях, действительно доблестных, ни чета последнему, срамному… Там, в Теруале, все — создания божии, и неважно, какого цвета у них кожа и в какой день недели выносили во двор молельный коврик или статую Девы Марии. А они, доблестные галлы, надежда и гордость своей отчизны — что они натворили? И хоть молодой рыцарь не участвовал ни в оргиях, ни в мародёрстве — но и не в о с п р е п я т с т в о в а л. А потому — был сопричастен. Ибо, получалось, с его молчаливого согласия рвали одежды на осипших, потерявших голос от криков, женщинах, вспарывали животы в поисках проглоченных драгоценностей, гадили в святых местах…
И потому, когда склонился над ним чей-то пресветлый лик, сияющий ослепительно, и старческий надтреснутый голос спросил мягко: «Веруешь ли, сын мой?» — только головой мотнул. И как смог, просипел через саднящее горло:
— Не верую. Иди своей дорогой, ангел божий. Я не твой.
Сияние приутихло, и вот уже Бенедикт мог рассмотреть склонившегося над собой сухонького старичка, согбенного не годами — из-за плеч явственно проглядывал горбик. Лазоревые, ничуть не выцветшие от возраста очи смотрели без сострадания, но печально. И это мог понять вьюнош: сострадания он, вроде, был не достоин, а печаль, может, и заслужил, ибо… Было ему о чём сожалеть.
— Значит, не веруешь, — огорчённо сказал… дедушка. Отчего-то так и хотелось его назвать — не ангелом, не святым — а кому ещё здесь взяться и пройти мимо разорённого войска, когда, вдобавок, ещё вопли пытаемых не стихли? А ведь на старичке сутана… или… да, что-то монашеское, хламида какая-то. Если уж не пожалели священника — и этому руки заломили бы, но его будто и не видят, значит — святой, из пустынников…
Конец простой суковатой палки тронул ремни, стягивающие ноги, коснулся пут на руках. Тонкие полоски кожи лопнули, будто по ним полоснули бритвой. Тут-то ему и конец, вяло подумал молодой рыцарь, жилы-то были перехвачены, а сейчас кровь по ним побежит — и раны откроются. Впрочем, лучше так, чем суток двое-трое загибаться от пекла в брюхе… И тут же его ошарашило полное б е з б о л и е. Не доверяя собственным ощущениям, он сел на мокром от крови песке, тронул живот. Через дыру подкольчужного свитера, ещё влажного от крови, хорошо прощупывалась гладкая кожа, налипший песок — но и только.
— Это мешало, — пояснил старичок и подсел рядом. — Так почему не веруешь, сын мой? Поясни.
Рыцарь глубоко вздохнул, в ответ больно кольнуло в печени. Всё ясно. Он просто бредит перед смертью. Ибо только тем можно объяснить и появление собеседника, и его странный интерес.
— Смысла не вижу, отче, — ответил всё же. Хотелось поддержать галлюцинацию, чтобы не исчезала вместе со спасительным телесным бесчувствием. Хорошо бы так и до самого… конца в забытьи продержаться, чтобы не корчиться под солнцем, аки червь, да выть, когда ещё живого начнёт клевать вороньё. Они ведь, сволочи, с глаз начинают…
— Жить тебе отмерено до рассвета, сын мой, — сказала спокойно галлюцинация. — Но это не совсем правильно. Судьба тебе была уготовлена совсем иная: как последнему сыну в семье, стать священником и свершить немало подвигов. Ведь всё к тому шло, помнишь? И духовник у тебя был, отец Аврелий, и место в семинарии поджидало…
— Он согрешил с женщиной, — сквозь зубы ответил Бенедикт. Воспоминания о том, как его кумир слетел с пьедестала, было тягостно. — Я застал его… Они целовались. В храме. В исповедальне. Это был конец всему.
— Это была минутная слабость, сынок. Вспомни: Аврелий был молод и красив, и сердце у него было человеческое, полное жизни и любви. Не его вина, что он отдал его женщине.
— Священник? Женщине? — в ужасе спросил Бенедикт. — Изыди!
Старичок негромко засмеялся.
— Ах, вьюнош… Это был их единственный поцелуй, первый и последний, когда влюблённые признались в своих чувствах — и расстались навсегда… Знаешь, что было дальше? Девушка вышла замуж за достойного человека, родила троих сыновей, старшего назвала Аврелием. Лет через сорок, может, и раньше, он возглавит папский престол и отменит позорную Инквизицию. Это будет святой не мне, грешному, чета. И когда однажды против него организуют заговор, никто иной, как твой духовник Аврелий выпьет из кубка с отравленным вином, чтобы доказать Папе, как он ошибался в своих друзьях. Любовь к женщине, пронесённая через всю жизнь, укрепит его в намерении спасти её сына. И Христианский мир не рухнет…