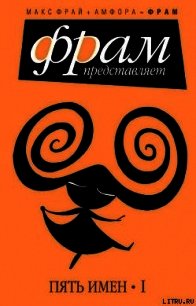Пять имен. Часть 2 - Фрай Макс (версия книг txt) 📗
Промысел Божий о счастье земном оставался непостижим.
В раздумьях и молитвах истончилась плоть Льюлля, уподобилась по легкости дыханию его воображения, старость кончиком кисти тронула черты его лица и отступилась, пристыженная благородством и чистотой помыслов Раймона, даже обычные спутники дряхлости — недуги и лихоманки отступились от него, как ржавчина от золотого слитка.
Проводя ночи без сна, неотступно думая о Машине счастья, Раймон Льюлль изобрел детскую игрушку — срезал полую тростинку, из тех, что хороши для свирелей, купил у разносчика разбитое зеркало и осколки смальты, начинив ими внутренность тростинки, оставив лишь оконце для того, чтобы смотреть внутрь, сощурившись. Эта забава являла собой наглядный символ изменчивости и многообразия мира — узоры, образованные осколками стекла при вращении и отраженные плоскостями зеркал никогда не повторялись
От бесчисленного множества узоров и орнаментов в глубине игрушки, у зрителя кружилась голова, как на краю пропасти.
Но ничего, кроме детских безделиц не удалось создать Раймону Льюллю, вращалось годовое колесо, стаи перезимовавших птиц возвращались в дельты рек, взрослели дети, строились города и тускнели манускрипты, рассыпаясь под безнадежными пальцами читателя.
Но однажды Раймон Льюлль почти приблизился к открытию тайны машины счастья. Сошлись все расчеты, он почти закончил чертеж, оставалась малость.
Стояла весенняя ночь, когда эфир зодиакальных сфер наполнился любовной истомой, а темные вольно шумящие сады — поцелуями, шепотами, соловьиным щелком и дробью трелей, мерцанием светляков, сплетением тел и помыслов, на вершину холма, где стояла хижина Раймона Льюлля поднялся, танцуя, босоногий отрок с флейтой пана на поясе, в овчинной накидке пастуха. Волосы его были увлажнены теплым плодоносным дождем, навевающим сладкую дрему и сулящий богатые сенокосы, маленькие стопы не приминали высокий травостой, осоки и хвощи, взгляд из-под соломенной кудрявой челки смышлен и зорок-радость и печаль смешивались в его зрачках, как женское молоко и вино, уготованное для Причастного Потира. Без робости пятнадцатилетний свирельщик ступил в укромный кружок света масляной лампы под стрехой хижины и, присев на корточки, взглянул снизу вверх в лицо бодрствующему Раймону, лукаво склонив голову на плечо. Соблазнившись сиянием медовых кудрей, вокруг чела отрока прихотливо вились ночные мотыльки.
Раймон Льюлль вздрогнул, потревоженный гостем и строго нахмурил брови, отметив про себя, как странен разрез ясных очей отрока — такое очертание век и ресниц он не раз встречал, скитаясь по земле Египта, на фресках в полузасыпанных пустынными песками фараонских усыпальницах и храмах. Древние живописцы, которых не зря называли «seenech» — оживители или воскресители, удлиняя миндалевидные веки цариц и божеств, называли их "глаза сокола". Неспящие глаза мудрого сокола Хоруса, лучезарного кормчего вечного солнцестояния.
— Кто ты? — спросил старик.
— Любовь. — ответил мальчик.
— Что в теле твоем? — спросил старик.
— Любовь. — ответил мальчик.
— Кто зачал тебя?
— Любовь.
— Где родился ты?
— В любви.
— Кто тебя вскормил?
— Любовь.
— Чем живешь?
— Любовью.
— Какое имя носишь?
— Любовь.
— Откуда идешь?
— От любви.
— Куда идешь?
— К любви.
— Где живешь?
— В любви.
— Есть ли у тебя что-нибудь, кроме любви? — спросил старик.
— Любовь. — ответил мальчик и не содрогнулся, не отстранился, когда ладонь Раймона Льюлля погрузилась в ветреное сияние его волос. Неумело, вспоминая науку плача, нежности и страдания, старик ласкал отрока и не мог отвести взгляда от очей соколиных, агнчих и зодчих, нарекая отрока вслух гостем и Другом, и по праву Господина и хозяина, сливаясь в долгом лобзании с устами отрока, горькими, как полынь или сок молочая.
И Раймон Льюлль впервые за все долгие годы не думал о Машине Счастья.
— Друг мой, сын мой — одно у нас дыхание жизни, — шептал Раймон Льюлль, меж лобзаниями пронизывающими и проникающими, упиваясь ароматом отрока — мирры, аниса и салернского базилика. — скажи мне, кто Господин твой?
— Тот, кто заставляет меня страдать, желать, любить, плакать, смеяться и умирать — отвечал отрок и пастушьи одежды пали в пыль рядом с отшельничьими ризами, открывая иероглифы тел, начертанных на ладони гололобой подлунной земли.
— Скажи, хочешь ли ты быть свободным? — спрашивал старик.
— Хочу быть во всем свободным, кроме любви — отзывался отрок, награждая и карая старика ликующей горечью вечно улыбающихся уст и продолжал шептать, приникая к груди старика острыми смугло-розовыми сосцами.
— Господин, если хочешь огня, иди в сердце мое и зажги светильник свой, если хочешь воды — иди к глазам моим и возьми мои слезы, если хочешь размышлений — возьми их в моей памяти.
Сходили отрок и старик на ложе любви, и простыни им сплели наслаждения, и покрывало соткали страдания, и не знали они — из ткани мук или блаженства было изголовье их. Одной веревкой повязали они разум, память и волю, чтобы не разлучиться вовек. Сплели они в один узел воспоминания, кротость и нежность и стыд. Между страхом и надеждой свила гнездо любовь, и жила размышлениями и умирала от забвения, кои суть основа утех распадающейся и самосозидающей скорлупы неисчислимых миров.
Близость и отстраненность равны были для Друга и Господина, как неразделимы жар и сияние, неразделима их любовь, как сущность и бытие сходилась любовь в единое целое. Долги и кратки были дороги любви, ибо любовь светла и чиста, правдива и незапятнанна, изящна и сильна, проста и возвышенна, осиянна светом юных раздумий и древних воспоминаний.
Светало и окреп утренний ветер, дунул в теснины тверди мира, как сицилийский трубач в раковину, и волнами сбегали травы с каталонских холмов и пробудились птицы, и благоухали шалфей и болиголов в лощинах, а старик вливался в отрока, и отрок вливался в старика, как сообщающиеся чаши клепсидры.
— Скажи мне, друг, что есть чудо? — спросил старик, утомленный любовью.
— Любить больше то, чего нет, нежели то, что есть, и возлюбить сильнее видимое и тленное, нежели невидимое и вечное. — отвечал отрок — и скоротечная, будто косой дождь в Пасхальную ночь, дрема отяготила удлиненные капельно веки его.
— Чего ты желаешь теперь, первенец души моей? — спросил старик и пальцы его снова заблудились в золотом руне локонов отрока, напитанных глубокой любовной влагой.
— Уснуть на твоей груди — отвечал мальчик.
— Спи. — властно позволил Раймон Льюлль и, запрокинув голову лежал, глядя в пустоты разверстых полетом дымных небес, населенных блуждающими глыбами кучевых облаков и стаями стрижей, лежал, пока милосердный сон не одолел его на лоне новорожденного дня.
Пробудившись от холода выпавшей росы, Раймон Льюлль обнаружил себя обнаженным на пороге хижины — масло в светильнике совершенно выгорело, лампа почернела и треснула. А вместо ночного отрока на груди Раймона Льюлля лежала надвое преломленная, как хлеб, пастушья флейта — каламус Пана.
И Раймон застонал, как обокраденный, потому что не мог вспомнить ни одного штриха из чертежа своей машины Счастья, к созданию которой он был так близок в ту отдаленную от нас весеннюю ночь. Как ни вгрызались в пыль его пальцы — как ни пытался ученый пробудить в памяти хоть малую деталь — все усилия были тщетны, словно Друг оскопил ясность его разума, скрыл непроницаемым платом почти разгаданный ребус.
Раймон Льюлль осознал весь ужас потери и содрогнулся от омерзения перед мертвой механикой несбыточной машины Счастья. И не оглянувшись на отворенные двери хижины спустился с холма к людям, едва прикрыв наготу и нищету свою.
Некоторые паломники и купцы по сей день уверяют, что встречали на дальних путях рослого человека, обветренное лицо его одухотворено и прекрасно, как у мужа в расцвете зрелости, пальцы его измараны чернилами. А в заплечной котомке хранит он диковинные чертежи и книги на неведомых языках, а бережнее всего — обломок каламуса, пастушеской камышовой свирели, которой не суждено зазвучать вновь.