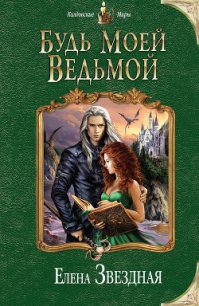Нигредо (СИ) - Ершова Елена (прочитать книгу .txt) 📗
В глубине дворца гулко и звонко били часы, с каждым ударом все глубже вколачивая раскаленную иглу мигрени в затылок. Зуд вернулся, и Генрих заложил руки за спину, за кожей перчаток ощущая, как горят его стигматы.
— Вас ожидают, ваше высочество, — согнувшись в поклоне, секретарь распахнул двустворчатые двери. Белизна разломилась, обнажая благородную пурпурную изнанку и приглашая Генриха войти.
В кабинете его величества господствовала холодная правильность. Книжные стеллажи занимали дальнюю стену идеально квадратного кабинета, где не было ничего лишнего, лишь письменный стол, конторка, да пара кресел. Оба занятых, к тому же.
В одном восседал сам кайзер — основательно-квадратный в повседневном сером кителе, с квадратным же лицом, обрамленном седеющими бакенбардами. За креслом в классической квадратной раме висел его собственный портрет, написанный еще до рождения Генриха: морщин чуть меньше и волосы темнее, а взгляд все тот же — бескомпромиссный и властный.
— Я увидел достаточно, — говорил он густым и ровным голосом, даже не взглянув на вошедшего, — но не увидел необходимости сокращать количество больниц. Тем более, в последние годы участились случаи заболеваний чахоткой, а я не желаю вспышек эпидемий.
— Эпидемия вспыхнет так или иначе, — осторожно возражал собеседник.
— У нас еще семь лет, — отрезал кайзер, постучав короткими пальцами по столу. — Я предпочитаю отсрочить неизбежное, а не приблизить его.
— Все в руках Бога! — епископ Дьюла поднял сухие ладони, и перстни на его длинных, как узловатые палочки, пальцах рубиново сверкнули. — Бога, — повторил он, — моего кайзера и Спасителя.
Тут он слегка поклонился сначала его величеству, потом — Генриху, но так и не соизволил подняться. Его глаза, водянисто-серые и как будто полые, скрадывали любые эмоции. Смотреть в них, все равно как смотреть в револьверное дуло.
— Советую вам полагаться не на Бога, а на современную медицину, — с нажимом произнес Генрих, вытягиваясь в струну и пряча за спиной горящие руки.
— Я не давал вам слова, сударь мой, — заметил его величество, поворачивая, наконец, тяжелую голову. Бакенбарды мазнули по высокому и тугому воротнику. Душит ли его золотой ошейник? Жаловался ли он в детстве на неудобство формы? Просил ли убрать из воротника иголку, воткнутую острием вверх, до тех пор, пока не научился держать подбородок гордо поднятым, как подобает престолонаследнику? Если да, то никогда и никому не признается в этом.
— Вы правы, — ответил Генрих, выдерживая каменный взгляд. — Но если мы не создадим условий для улучшения жизни малоимущих, то риск развития инфекционных болезней станет гораздо выше.
— Кажется, вы поддерживаете политику нашей императрицы, — заметил епископ, по-прежнему не меняя позы, даже не шевелясь. И в том, что сам Генрих стоит, когда епископ продолжает сидеть, было нечто вызывающее и обидное.
— Моей матери, — поправил Генрих. — Вам не кажется.
— Санатории для бедняков? Супные кухни? Не говоря уже о престранных исследованиях, которые вы называете «научными», — тонкогубая улыбка Дьюлы походила на серп. Генрих ранился о нее до крови, но в болезненно-мучительном возбуждении не отводил взгляда.
— От этих исследований зависит будущее Авьена.
— Оно зависит только от вас, ваше высочество.
— Предпочитаете сложить руки и ждать моей смерти вместо того, чтобы решать проблемы уже сейчас?
— Довольно! — прервал кайзер.
Он никогда не повышал голос, но между тем и слуги, и придворные, и члены императорской семьи безошибочно улавливали в нем стальные нотки, как сигнал о надвигающейся буре.
— Я вынесу обсуждение вопроса на заседание кабинета министров, — продолжил его величество, обращаясь к Дьюле, и Генриху казалось, что он даже слышит скрип, с которым поворачивается массивная шея отца. — Не смею больше задерживать, ваше преосвященство.
Епископ, наконец, поднялся. Высокий и тощий, затянутый в строгую черноту. Белел только воротник да крест на длинной цепочке: консерваторы от церкви не изменили старому Богу, но после эпидемии внесли коррективы в символику. Теперь вместо гвоздей ладони и стопы Спасителя калечило пламя.
«Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся…»
Генрих быстро облизал сухие губы и сцепил пальцы. Руки от запястья до локтя пронизало болезненной иглой, послышался короткий и сухой треск, словно рядом надвое переломили ветку.
Дьюла остановился напротив, держа под мышкой бордовую папку. Крылья носа шевелились, точно епископ принюхивался.
— Благословите, ваше высочество, — проговорил он, глядя на кронпринца и сквозь него. Пустота в глазах казалась бездонной и влажной. Дрожа от омерзения, Генрих быстро перекрестил воздух.
— Благодарю, — кротко ответил епископ и, уже взявшись за бронзовую ручку, заметил: — У вас сильно трясутся руки. Будет лучше, если вы станете вести более подобающий Спасителю образ жизни.
Затем выскользнул в искусственную белизну.
Генрих снова лизнул иссушенные губы. Противная слабость накатила внезапно, и он, боясь показаться дрожащим и жалким, тяжело опустился — почти упал, — в освободившееся кресло.
— Я не предлагал вам сесть, — сквозь мигренозную пульсацию послышался голос отца.
— Разумеется, — ответил Генрих, выправляя осанку. — Вы предложили его преосвященству.
— У нас был долгий и содержательный разговор, касающийся вас в том числе.
— Нисколько не сомневаюсь. И предпочел бы, чтобы разговор велся в моем присутствии, а не за моей спиной.
Их взгляды, наконец, скрестились.
У кайзера серые пронзительные глаза под тяжелыми веками, зачастую флегматично прикрытые, совсем не похожие на беспокойно живые глаза Генриха, унаследованные им от матери. Порой казалось, отец мстит за эту непохожесть: единственный сын и преемник Авьенского престола перенял не коренастую основательность гиперстеника, а тонкокостное телосложение императрицы. Портрет Марии Стефании Эттингенской — единственно овальный предмет в этом правильно-квадратном мирке — висел на противоположной стене, куда почти не падали солнечные лучи, и оттого сама императрица — загадочно-улыбчивая, воздушная, вся в блестках и атласе, — казалась волшебным видением из чужого и недостижимого мира.
Под сердцем заскреблась сосущая тоска, и Генрих отвел взгляд. Разлуки с матерью давались тяжелее, чем встречи с отцом. Еще одна изощренная пытка, к которой никак не привыкнуть.
— Я настаивал, — заговорил Генрих, глядя мимо его величества, на бронзовое пресс-папье в виде задремавшего льва, — и продолжаю настаивать, что закрытие больниц и школ для бедняков недопустимо. Просвещение — вот, что спасет Авьен. Нужно поощрять изобретателей и рабочих, вкладываться в науку и медицину, а не в изжившие себя дедовские суеверия.
— Которые, однако, избавили страну от эпидемии, — напомнил кайзер, сцепляя квадратные пальцы в замок. — И продолжают избавлять вот уже третий век. В отличие от вашей «науки», которая не принесла ничего, кроме пустых расходов.
— Авьен построился не за один год, — процитировал Генрих известную поговорку. — Дайте мне время.
— Как много?
Вопрос остался без ответа: Генрих и сам не знал. Сколько бы сил и средств он не вкладывал в алхимические эксперименты, в теоретическое естествознание и медицину, время играло против него и чем дальше, тем больше представлялось агрессивной и темной силой, несущейся навстречу с неотвратимостью потока. Однажды этот поток подомнет Генриха под себя, и он вспыхнет изнутри, как факел.
— Поймите же наконец, — снова заговорил его величество, — если бы существовала возможность, я с радостью ухватился бы за нее. Но человек не в силах повлиять на законы бытия. Я только император, не Бог.
— Бог — я, — вымученно улыбнулся Генрих. — Но меня не спрашивали, хочу ли быть им.
— И, тем не менее, в этом ваше предназначение, — отозвался кайзер. — Но вы ведете жизнь, неподобающую статусу.
— Я только хочу познать ее во всех проявлениях. Узнать народ, ради которого мне предстоит погибнуть.