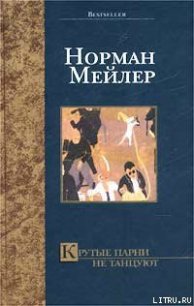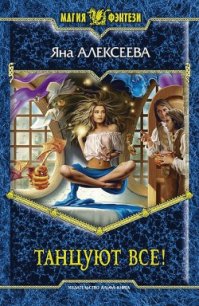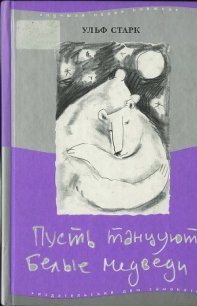Рыцарь умер дважды - Звонцова Екатерина (чтение книг TXT) 📗
— Мильтон?..
— Амбер?
Он сидит надо мной. Эмма не солгала: на щеке рубцы, волосы обрезаны короче, чем были, хотя по-прежнему достигают плеч. Не солгала она и в другом: Райз бледен, выглядит изнуренным и… затравленным. Совсем не как на плакатах, не как когда сбрасывал цепи, не каким я его оставил. И вместо десятка вопросов, возможно, более рациональных, я спрашиваю:
— Ты в порядке?
Амбер вздрагивает.
— Ты едва выжил. И интересуешься, в порядке ли я? Ты святой, Мильтон. Черт возьми, чертов святой.
Как и часто в минуты волнения, он не сдерживает ни крепких слов, ни других проявлений. Даже порывисто, как-то по-детски обнимает меня, когда я сажусь. Тут же отстраняется, выпрямляется, выжидательно глядя в лицо. Глаза блестят так же остро, как у Эммы. Там мольба.
Отвечая на взгляд, я вспоминаю. Фокусы, иногда не поддававшиеся логике. Исчезновения, находившие, если вдуматься, хлипкие объяснения. Отстраненность, с какой мой друг порой смотрит — на огонь ли, в небо, на зрителей, восторженно выкрикивающих его сценический псевдоним. Когда-то я удивительно просто принял Амбера таким, какой он есть: модного слова «иллюзионист» хватило, чтобы не искать ответы на вопросы. Я увидел одаренного ребенка в теле потерявшегося взрослого — и продолжал видеть, хотя с нашей встречи прошло восемь лет. Удивительно… а ведь так я не видел Амбера вовсе, ни разу — по-настоящему. И я сам сделал этот выбор, с первого вечера, с первой попытки объясниться.
«— Моя магия более чем реальна!
— Несомненно. Реальна, как и у всех вас».
Мне ничего не подсказала история о том, как какие-то «друзья» похоронили его заживо. И сон, где он истекал кровью, а звезды отнесли его домой. И смерть конфедерата, соединившего нас шрамом. Я легко, сухо, даже не без удовольствия находил почву каждому слову, каждому поступку, каждому чуду. Как я мог быть таким идиотом?
— Мильтон. — Амбер плавно поднимает ладонь, над которой появляется светлячок. Маленькое недвижное насекомое освещает наши лица подобно фонарю, и невольно я тяну руку, но пальцы замирают в полудюйме. — Я не фокусник. То, что тебе лучше, — не гипноз. Я и не умею гипнотизировать. Я просто вылечил тебя, и вылечил бы сколько угодно раз. Ты… — он легко, не смыкая пальцев, берет светляка в горсть и опускает на мою ладонь, — друг.
— Один из тех, кого в той сказке убили?..
Я пытаюсь усмехнуться, но он тут же хмуро качает головой.
— Один из тех, к которым хотелось возвращаться даже из гроба. Но в этот раз тебе… вам с Эммой придется самим прийти ко мне. Скоро я…
Судорога пробегает по лицу, он осекается. Ему больно — наверное, это выражение узнаваемо, к какому бы миру ни принадлежал страдалец. Ладонь движется от ребер к животу, тут же сжимается в кулак. Появившейся улыбке не поверил бы ни один зритель. Тем более, я.
— С тобой что-то случится. Я понял. Могу я…
— Нет, — спешно обрывает он. — Не можешь. Пока нужно другое.
— Что? — Это почти вопль, потому что бледность разливается по коже, и мне чудится, что на темной рубашке обозначилось пятно. Крови? — Да говори же.
— Ты веришь? — выдыхает он. — Хоть чуть-чуть… веришь?
Он замолкает, обессилено жмурясь. Не продолжит, не услышав ответ.
Броня рассудочности может быть крайне крепка — и я всегда гордился своей. Она необходима в мире метафизической лжи, в мире, где каждый второй дурит тебе голову и пытается запустить грязные пальцы в душу. Но броня должна оставаться броней. Не превращаться в неснимаемый панцирь, в тяжелые роговые наросты, закрывающие и взор, и сердце. Я в последний раз смотрю на теплое насекомое, светящееся над ладонью, и выпускаю в траву. Я не стану пытаться развеять его, как морок. Ведь оно живое.
— Верю. Ты не тот, за кого выдавал себя. И ты в беде.
Улыбка становится настоящей — широкой и бесстрашной, я ее знаю. Амбер опускает руку мне на плечо и пытливо вглядывается в лицо.
— Отлично. У тебя ведь с собой оружие? Впрочем… — он не дожидается ответа, — может, оно не понадобится. У тебя будет проводник, и еще ты с Эммой. Она многому научилась, она славная девочка. В ней оказалось немало от сестры.
От… Джейн?
— Послушай. — Осторожно пытаюсь ослабить его нервную хватку. — Я не понимаю практически ничего, но мне не нравятся такие авантюры, а особенно то, что ты втягиваешь туда молодых девушек, живых или покойных. Ты не тот, кому я доверю Эмму или…
Амбер фыркает, внезапно развеселившись, и упрямо, нетерпеливо мотает головой.
— Не время ворчать по поводу моих устоев! Вскоре у тебя будет славная компания в лице мисс Бернфилд, и она многое тебе объяснит. Путь будет довольно долгим.
— Путь…
— Я живу там. — Он все так же нетерпеливо кивает куда-то в сторону срубов. — Дальше. За Двумя Озерами. Но я не могу вернуться туда отсюда, с вами, я… вроде как мертв, нет, не спрашивай! Пока что, — он легонько меня встряхивает, — главное, Мильтон. Самое главное. Что бы ты ни увидел. Что бы ни произошло прямо здесь, прямо сейчас. Ни в коем случае…
Его «не бойся» тонет в донесшемся со стороны озер девичьем крике. Это крик Эммы.
Голос, раздавшийся следом, — глухой, злой, хриплый — тоже трудно не узнать.
9
ИНКВИЗИТОР
«Я потерял опору, Нэйт, даже не заметил, как легко. Я хочу прийти в церковь уже несколько дней, прийти с покаянием. Я знаю, вера учит: истинно отпускает грехи Господь; пасторы — не светочи его величия, но рабы; их удел — слушать и наставлять. Пастухи — часть паствы, истинный Пастырь один. Но я прошу у тебя, прошу, Нэйт, отпусти мне грехи или, как в давний день, назови трусом. Сделай что-нибудь, чтобы я поднялся, вспомнил, что я — по праву сын своего отца.
Он подарил мне дом. Я защищал этот подарок, пока на плече лежала отцова рука, и когда она истлела. Город спал без страха, ведь я был его сторожевой собакой. Скажи, Нэйт… когда в воде моей оказалась сонная трава? Когда мне выкололи глаза? Как я допустил сначала смерть невинной, потом явление чудовищ, потом великое пожарище? Никто больше не треплет пса по холке. Пса побивают камнями, ведь одному он еще противится, изо всех сил натягивая цепь. В город не придет старик Линч, продавец пеньковых веревок. Или я стану первым, кого здесь повесят. Я, а не безумный мальчик. Может, тогда очнется хоть кто-то?
Они напуганы: от последнего китайского работяги до мэра. Они вспомнили, от чьей плоти я — плоть. Они сторонятся меня и парней, не слышат нас, когда мы взываем к закону или расспрашиваем, ища правду. Они боятся людей своего племени лишь потому, что те верны мне, и уже нас вместе боятся, как зверей. Все это — на мне. Я не сберег то, чем дорожу более всего.
Пожалуйста, Нэйт… отпусти мне грехи».
Недавно к участку принесли окровавленный труп Старого Джо — владельца лавки — и поставили ту смерть рейнджерам в вину. Позже остались глухи к призывам не рубить с плеча, собрали свору ревнителей морали, и те снова явились к Винсу, искательно выспрашивать, когда же суд над «убийцей Андерсеном». Еще позже, поняв, что суд не грядет, горячие головы пришли все на то же крыльцо и заговорили уже не искательно. Рейнджеров было больше, оружия у них тоже. Дебоширы обещали вернуться с мэром. Смешно. Наш нерешительный добряк все это время качался из стороны в сторону, как апельсин на ветру. Он не смог бы удовлетворить народный гнев, равно как и погасить его.
Я наблюдал все со стороны, в известном смысле сидел в засаде. Единственным моим жестом стало осуждение поджога. Этого хватило, чтобы католики, методисты, квакеры — все, с кем раньше мы хотя бы притворялись соратниками, а не противниками, — начали обходить меня по дуге. Они уверовали: город в осаде дьявола. Я видел другое: дьявол уже внутри. С нами. Даже в церквях, там, где люди ополчились друг на друга. Но я молчал, пока сегодня, — когда чужая паства подпитывала дьявола в себе, — не пришел к Винсенту. Он узнал меня по шагам. Не поднимая головы, протянул руку в пустоту и заговорил горячо, быстро, отрывисто. Я стоял над ним и слушал, а потом, когда наши глаза все-таки встретились, просто осенил его крестом.