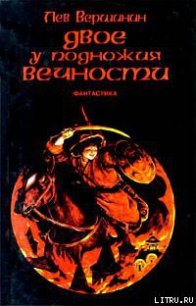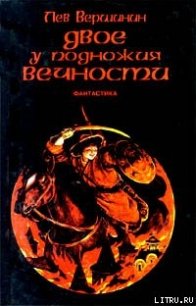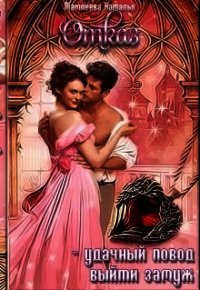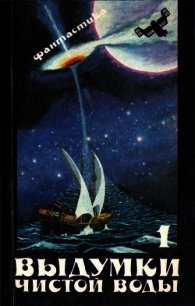Доспехи бога - Вершинин Лев Рэмович (читаем книги .TXT) 📗
С тех самых пор, как пришли сюда железные люди первого из Императоров, здесь обитает частица Вечного Творца, и двери Храма намертво закрыты для черни.
Не для простолюдинов ровные, строгой резьбой украшенные скамьи вдоль стен. Не для податных сословий глубокие, загадочно мерцающие ниши исповедален, и сколь бы ни был богат гильдейский купчина, ни за какие деньги не приобрести ему право на молитву перед Завесой Грядущего. Да что там – купец или смерд! Не перед каждым носителем герба приоткроется калитка в левом нижнем углу гигантской двери. Ибо этот Храм – Храм имперской знати, сюда приходят высочайшие поклониться надгробиям славных предков, и вовсе не зря только лишь здесь, ни в коем случае не в ином месте, дозволено Императору собирать вассалов на шаамаш-шур.
Шуршанием змеи ползущей, шипением змея разозленного звучит это слово, и даже среди студиозов Коллегиума, постигших все науки, далеко не сразу сумеешь найти такого, который ответит: каков смысл сего шуршания и шипения. Лишь премудрые хранители алтарей, порывшись в пыльных свитках, объяснят за немалую мзду: в переводе с древнего, почти забытого языка «шаамаш»– суть «истинное величие», а «шур»– «священная клятва». Впрочем, достопочтенный Ваайя в своем «Истинном Толкователе минувших событий» указывал, что скорее – «обет, принятый по доброй воле»; но про догадки Ваайи ответит лишь молодой, запальчивый и неосмотрительный алтарный служка, да и то – отнюдь не всякий, и при этом – торопливым шепотком, на ушко и с оглядкой; пусть нынче имя мудреца обелено и разрешено к упоминанию, но слишком памятна всем горестная судьба собирателя слов.
Впрочем, важно ли – Клятва или Обет? Хоть так назови, хоть этак, а суть не изменится: шаамаш-шур есть шаамаш-шур.
Словно паря за алтарем, в трепещущем сиянии языков священного, никогда не угасающего пламени, изукрашенный синими лалами престол Императора. Семь укрытых ковром ступеней ведут к золотому трону, и полукругом стоят семь кресел, развернутые к пьедесталу и огню.
Три – с черной обивкой: пурпурный грифон Поречья, лазурный единорог Баэля, серебряный чертополох Ррахвы.
Три – с обивкою желтой: двуглавый медведь Златогорья, осьмиконечные тон-далайские звезды, скрещенные секиры Каданги.
И еще одно кресло, высокое, с обтянутыми бархатом подлокотниками и узкой остроконечной спинкой – посредине. Узкие клиновидные ножки напоминают ножи. На гладкой фиолетовой коже оттиснуты волнистые языки пламени: белые на левой половине, золотые на правой.
Оно не занято.
Орден не откликнулся на зов.
Это нехорошо. Это очень и очень скверно.
Но что поделаешь…
Непроницаемо лицо Императора. Каменно сжаты губы, обрамленные аккуратно подстриженной бородкой. Равнодушно-учтив взгляд, обращенный ко всем присутствующим сразу и ни к кому в отдельности.
Сердце же монарха полно восторга, и умей душа кричать, как кричат люди, эхо бродило бы нынче под древними сводами Храма.
…Дылда – умница!
Со всех концов Империи съехались вассалы на зов владыки; по доброй воле, без уговоров и принуждения собрались они здесь, в храме Вечности, – и впервые за долгие, долгие годы, со дня коронации, заняли принадлежащие им места все имперские эрры.
Вот они сидят, положив руки на подлокотники.
Барон Ррахвы, еще полгода тому назад под хохот солдатни крикнувший Императору с высоты своих неприступных твердынь: «Не забывайте, сударь, кто вас сделал владыкой!», сейчас он сидит тихо, неприметный, как полевая мышь. Кто бы мог подумать, что он примчится первым, опередив даже герцога Тон-Далая, чьи земли лежат много ближе к столице, чем ррахвийские ущелья?
Безумный фюрст Поречья, позволивший себе обрядить челядь в ливреи с имперским гербом… седой и сухопарый, живущий памятью о былом величии повелитель Златогорья… все они тут, все вспомнили наконец, что у них есть Император, – кроме юнца из Баэля, чье пустующее кресло увито траурным крепом.
Граф Баэльский не придет.
Никогда.
…Какая же ты умница, Дылда!
Кусая губы, вглядываются эрры в лицо Императора, но тщетно – сквозь прищуренные веки кому дано заглянуть в душу?
Симметрично положив руки на широкие жесткие подлокотники, восседает на престоле Император, похожий в этот миг на статую Второго Светлого работы святого мастера Клау; душа же его ликует. Сейчас, как ни странно, он почти любит подлых вилланов, гнусную чернь, подрывающую устои, ибо не будь ее, этой презренной черни, даже хитромудрому Ллиэлю не удалось бы придумать, как сбить спесь с высочайших.
Императору легко и радостно.
Он готов нарушить «Закон о наказании» и простить – да, да, простить! – девять из каждого десятка пленных смердов… разумеется, после того, как мятеж будет укрощен и быдло уляжется носом в грязь, из которой осмелилось подняться. Да-да, решено! – только один из десяти подвергнется примерной, долгой и мучительной казни, с остальных довольно будет и клейма или, допустим, отсечения носа: пусть живут и трудятся, славя кротость властелина.
Но это – позже, когда все будет позади.
Ныне – шаамаш-шур.
Следует стать мудрее змеи и предусмотрительней лесного филина – пока не поздно; пока эти шестеро, восседающие в гербовых креслах, не опомнились. Сейчас они смирны и покорны, но стоит им усомниться в черно-золотом знамени – все. Императору не прожить и дня. Потому что они – хищники. А хищников должно бить палкой по носам, дабы не смели и думать о сопротивлении. Дабы учились уважать волю господина.
Иначе – нельзя. И не будет.
Но если бы здесь был еще и магистр…
Голос, низкий и гулкий, словно бы и нечеловеческий, зародившись неведомо где, заполняет алтарный зал. Древними зодчими задумано и воплощено сие рукотворное диво, ибо восседающий под крылатой короной – не только Рука Вечного, но и Уста Его, и каждое слово, изроненное им, священно.
Медленным медово-медным потоком плывут слова. Очищаясь в неугасимом огне, нисходят они с пьедестала к смертным, сидящим против алтаря, и к другим смертным, теснящимся на скамьях, укрытых подстенным полумраком, и нет в Храме места иным звукам, пока раскатывается под сводами многократно усиленный голос владыки.
– Мы приветствуем вас, благородные родичи наши, и благосклонность наша к вам беспредельна!
Как слушают они!
Вне этих стен возможно все – и дерзость, и непокорство, но здесь, под этими сводами, каждое слово владыки равно слову Вечного. В неприступных замках, в неоглядных владеньях своих каждый из присутствующих мнит себя Императором, но никому, ни единому, не дано говорить именем Творца. Вот почему не любят имперские эрры собираться в Храме… и недаром со дня коронации не собирался шаамаш-шур.
О, какая тишина в зале! Какая сладкая, какая долгожданная тишина!
Высокородные сейчас не похожи на самих себя.
Мальчишески округлив губы, подался вперед буйный эрр Поречья, непобедимый воитель, пять лет назад принудивший платить дань никому до тех пор не подчинявшихся горных чечкехов и – больше того! – получающий ее поныне…
Едва заметно покачивается взад-вперед, словно завороженный речью владыки, убеленный серебром седин старец, властелин Златогорья, владелец приисков столь обильных, что, пожалуй, хватило бы целый год содержать армию в тридцать тысяч маарваарских копьеносцев…
Медленно обнажает голову герцог Тон-Далая, единственный эрр, обладающий правом не снимать шапку в присутствии властелина. На вид ему не дать и пятидесяти – но лишь тут, в храмовом сумраке; он, троюродный брат покойного деда Императора, сам мог бы восседать на престоле, и он ни на миг не забывает об этом; имперским сбирам закрыта дорога в Тон-Далай, и лазутчики доносят, что герцог позволяет себе называть Императора испорченным мальчишкой, а то и хуже. Но нынче он – здесь. И внимает…
Ах, почему же, почему нет среди них магистра?!
Короткая судорога, совсем незаметная для тех, кто сидит за пламенем, стягивает углы властного рта.
Орден – давняя головная боль; зудящая язва на теле Империи.