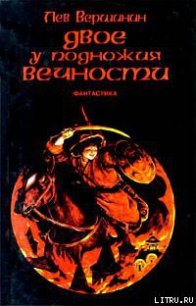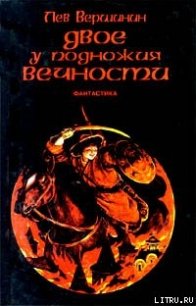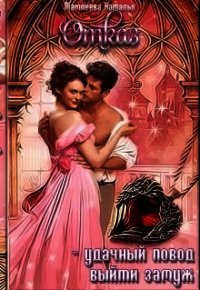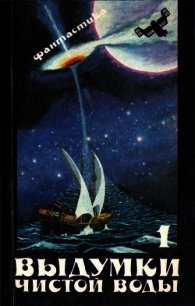Доспехи бога - Вершинин Лев Рэмович (читаем книги .TXT) 📗
– Каффары, – хрипел рыцарь, – проклятые еретики… это они, это все они…
Мастер Шурцу подал знак.
Для размаха подручные откинулись назад, и четыре бича одновременно рассекли воздух. Прозвучал пронзительный свист. Лошади, фыркнув, ринулись с места. Рыцарь ойкнул, что-то громко треснуло. Его руки со скрюченными пальцами рванулись в стороны, и правая нога явно вышла из бедренного сустава. Желтое лицо разом, на глазах, посерело, но он не кричал, он пока еще только хрипел. Из-за возгласов, криков, визга, несшихся из толпы, его нельзя было понять. Бичи теперь щелкали безостановочно, лошади снова и снова рвались с места. Рубаха и портки на несчастном с треском разорвались. Из серых отрепьев показались чудовищно растянутые в ширину, посиневшие плечи, ноги нечеловечески вытянулись. Но стойкие, натренированные сухожилия бывалого вояки не поддавались. И разуму его Вечный все еще не посылал спасительного мрака. Рот с обломанными зубами был оскален от боли, в грязь у столба с тряпок стекала кровь. Он исступленно хрипел. Потом левая рука с глухим хрустом вдруг выпрыгнула из плеча, и ничем не сдерживаемая лошадь наскочила грудью на солдат оцепления. Из огромной раны в плече хлынула алая струя, и вдруг – чего никто уже не ожидал – человек начал кричать. Как будто только теперь, когда его на самом деле разорвали на куски, он понял, что происходит нечто непоправимое…
Кому, как не мне, понять бедолагу?
У меня тоже болит голова, ноет спина и левую руку, которую я протягивал к Огню, присягая, все сильнее рвет и подергивает.
– Трогай! – приказал я.
– Дорогу почетному гостю мэрии! – щелкнув хлыстом, истошно возопил кучер.
Толпа дрогнула и, невнятно ворча, раздалась в стороны.
Экка одиннадцатая,
из которой читатель узнает, что Справедливость есть Справедливость, а от судьбы не уйти никому
– Ведут! Ведут! – понеслись голоса.
Толпа всколыхнулась, зашевелилась. Люди, плотно прижатые друг к другу, толкались, вытягивали шеи и привставали, пытаясь заглянуть поверх голов латников, плотным рядом выстроившихся вдоль мостовой. Те, крест-накрест соединив копья, подставляя толпе окольчуженные спины, кряхтели и бранились сквозь зубы, с натугой удерживая в берегах человеческое море.
– Веду-у-у-ут!
– Ведут? Уже? Пусти-ка!..
– Куда прешь, козел?
– Ну пусти, пусти, хоть чуток подвинься, а?
– Кто виноват, что ты такой коротышка? На матушку свою кричи, а не на людей!
– Стража, кошелек украли! Держи его, держи!
– Дура, зачем детей привела? Детям-то зачем смотреть?
– Дорогу знаменному его светлости дан-Ррахвы!
– Ведут! Ведут!
Площадь колыхалась и гудела. В середине ее, напротив четырехвенечного храма Всех Светлых, возвышался новенький, за ночь, в багреце факельных отсветов возведенный помост, сочащийся каплями светлой искристой смолы. Вокруг помоста тянулись такие же белые, тщательно обструганные столбы, соединенные брусьями-перекладинами, и витые веревочные петли, привязанные к крюкам, слегка шевелились на ветерке, словно разминаясь перед работой.
Над городом, заглушая ропот, крик и причитания напирающих друг на друга людей, катились малиновые переливы колокольных звонов; улицы, затянутые яркими полотнищами, а кое-где и коврами, походили на россыпи весенних цветов – таково было повеление градоначальника, и хозяева, не смея спорить, трудились ночь напролет, исполняя приказ; солнечные лучи играли на кольчугах, прыгали по лезвиям копий наемников, выстроившихся вдоль улиц от тюрьмы до самого помоста.
– Ведут!
– Ведут!
Однако время шло, никто не показывался; люди понемногу успокаивались. Солнце неторопливо ползло вверх; вот оно уже выше куполов Синей башни, вот позолотило кровли владычных часовен и зубцы Заклятого Града и сделалось из желтого почти белым. Толпа начала изнывать от духоты. Женщины, жеманно взвизгивая, отталкивали бесстыдно прижимающихся юнцов, утирали лица краями летних платков. Мужчины, кто сумел, скинули куртки, распахнули рубахи. Только немногие каффары, не совладавшие с любопытством и явившиеся поглазеть, согласно обычаю, потели в плотных пелеринах и глупых, совсем не по погоде шапках медвежьего меха. Да еще рядом с помостом, на почетных скамьях, вознесенных на высокие столбы, прела, истекала потом имперская знать – эрры и даны сидели неподвижно, храня достоинство, – а это, свидетель Вечный, было не так уж легко в тяжелых парадных одеяниях, шитых золотой канителью.
Солнечные же лучи припекали все немилосерднее, играли на кольчугах и наконечниках копий, и очень хотелось пить.
Наконец вдали послышался рев, перекрывший на миг гудение колоколов; люди вновь зашевелились, толпа дрогнула, напирая на оцепление и сдавливая стоящих в гуще; несколько всадников, гикая, проскакали по улице и спешились у края лестницы, ведущей на помост.
Осужденные показались неожиданно, в тот миг, когда люди меньше всего ожидали этого, и потому многие не успели рассмотреть как следует этих страшных людей. Стиснутые со всех сторон двойным кольцом стражи, они медленно продвигались вперед. Звон цепей звучал в такт колокольному перезвону. Охрана первого и второго была столь многочисленной, что разглядеть их было бы можно лишь с большим трудом, подпрыгнув и заглянув за железный круг шлемов. Затем вели рядовых мятежников; здесь цепочка охранников была не так уж плотна, при желании лица смертников можно было разглядеть во всех подробностях – но кого интересовали эти оборванные, избитые до синевы, безликие и безымянные простолюдины?
Стража двигалась медленно. И первого из ведомых, исполина, закованного в багряные доспехи, крепко связанного, с лицом, скрытым глухим шлемом под короной с колосьями, встречало и провожало почтительное, испуганное молчание. Все знали, кто это. В мерной неторопливой походке ощущалось какое-то нечеловеческое, спокойное величие. Из уст в уста бежала молва: ЕГО не пытали; ЕМУ не развязывали рук; с НЕГО даже не посмели снять латы. Особо осведомленные, понизив голос, добавляли: главный палач бросил на стол бляху и наотрез отказался принимать участие в ЕГО казни; услышавшие сперва изумленно вскидывали брови, но тотчас же и кивали с полным пониманием: о, да, да; мастера Бэрба трудно осудить; то, что его оштрафовали, но места не лишили, вполне логично. В конце концов, он готов сделать половину работы. А потом к делу приступит некий убийца и поджигатель, спасающийся от колеса…
– Да-да! Тот самый, что ограбил обоз Бвау Шелковника!
– Как, сударь, его изловили?
– Разумеется, уже, пожалуй, с неделю тому…
– Ну что ж, друг мой, что ни говорите, а наша стража даром хлеба не ест…
Затем шушуканье ненадолго стихало. Но когда исполин, надежно опутанный тройной цепью, заворачивал за поворот и пропадал из виду, все чувства толпы выплескивались на следующего за ним – худого, шатающегося, с кровавыми колтунами вместо некогда красиво-седых волос.
– Глядите, Ллан!
– О Вечный, какие глаза!..
– Мамочка, а это правда людоед?
– Сдохни, изверг!
– Отец, прощай!!!
– Кто это сказал? Держите его!
– Не трожь! Не трожь! А-а-а-а-а-а-а-а-а-ааааа…
Ллан, звеня цепями, шагал вслед за мерно качающейся багряной фигурой. Ничто не привлекало его внимания, он почти не чувствовал боли в истерзанном ночными пытками теле. Слуг Вечного не пытают прилюдно; сеньоры сорвали злость втихомолку, во мраке. Глупые палачи выбились из сил, но не услышали стона: они не ведали, что Ллан давно научился отгонять боль. Глаза его, сияющие более, чем обычно, были устремлены в прошлое, ибо в будущее он уже не верил, а в настоящем ему не оставалось ничего, кроме короткого пути до свежесрубленного дощатого помоста.
Лишь обрывки выкриков доносились до слуха и опадали, бесплодные и бессильные.
– …в ад, кровопийца!
– …за маму мою… за маму!
– …скотский поп!
– …прощай, отец!!!
– …а-а-а-а-а-а-а-а-ааааа!
Ллан шел, не отзываясь, не глядя по сторонам, словно кричали не ему. Меж ног стражников, обутых в добротные сапоги, едва виднелись грязные обожженные ступни. Он заметно припадал на левую ногу.