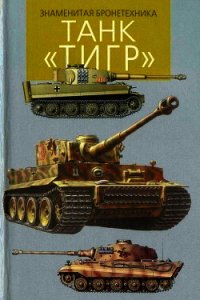В направлении Окна - Лях Андрей Георгиевич (книги онлайн полные txt) 📗
Холл сгреб со стола ключи с брелком в форме козлиной головы. Юноша протянул ему совершенно твердокаменную на вид руку. Холл посмотрел на нее пустыми глазами и вышел.
Дождь продолжал идти. Холл обошел белый «датсун», нависший бампером над тротуаром, влез внутрь и, опустившись на сидение, захлопнул дверцу. Что ж, вот он и дома. Такой у него теперь дом. Сам во всем виноват, сказала бы Анна. Хотя нет, может, и не сказала бы. Просто он привык говорить за нее слова, которые хотел бы услышать. Возможно, сейчас она говорила бы их ему чаще, кто знает.
Он чувствовал усталость. Странно, с чего бы ему уставать. Весь этот год он только и делал, что отдыхал — насколько сидение в тюрьме можно назвать отдыхом. Но, конечно, для него это был самый настоящий отдых, да и какая же Герат тюрьма — ни камер, ни решеток, можно спокойно разгуливать по всей крепости, выходить в сад — даже ночью. Библиотека, спортивный зал и сколько угодно разговаривай по спецканалу. За восемь месяцев у него вышли три статьи — никогда Холл так продуктивно не работал.
Ведь он упоминал сигареты в этом своем гератском списке. Повернувшись, Холл вначале стукнулся о мягкий потолок, потом опустил кресло и полез назад — и правда, большой чемодан, тисненая кожа. Он раздернул молнию — так, вельветовые брюки, видимо бритва, еще что-то, ага. Портсигар, и как будто серебряный, с монограммой. Что такое? Лапидарный крест, «Союз спасенных». Союз спасенных. Он закурил.
Хорошо. Что еще должен испытывать человек на его месте кроме усталости?
Во-первых, и во-вторых, и в остальных — благодарность. За то, что остался жив. За этот странный и утративший всякую реальность факт. Здесь дала сбой даже теория вероятности. Похоже, что им погнушалась смерть. За что? За конформизм, — ответила бы Анна. Может быть. Погибли все, кого он знал за эти годы. Он вернулся один. Зачем? Ни за чем. Случайность. Шанс.
Еще, подумал Холл, он должен быть благодарен за то, что у него снова есть правая рука и правый глаз, что ему вернули лицо, так что можно сфотографировать и вклеить в дурацкое разведудостоверение. За то, что припадки стали реже и в голове все так не плывет, хотя по-прежнему снятся колодцы на Валентине...
Стоп, сказал он себе. Валентину вспоминать не будем. Может схватить. Что это он сидит в темноте с выключенными кондиционерами? Холл вставил ключ, приборная доска осветилась, заурчал двигатель, сервомоторы втянули стекла. Пахнуло свежестью, дождем, ранней зеленью. Где у них этот аэропорт? Ни огонька вокруг. Холл машинально переключил скорость и тронул машину с места. Площадь, бледные рекламные транспаранты, шоссе. Прочертив красными габаритными факелами, проскочил высокий, как дом, тягач. Что ж, поедем.
Еще он должен быть благодарен — кому? — за то, что судьба его, наконец, определилась и он на свободе — или почти на свободе. Конечно, каждый его шаг фиксируется на всевозможные пленки и кристаллы, давешний разговор уже точно успели прогнать через ячейки очередного карлойда и даже в серебряный союз спасенных наверняка подсадили какую-нибудь пакость, но это нечто само собой разумеющееся — как воздух, как свет. Дело не в этом. Дело в том, что он сейчас спокойно может выйти из машины, позвонить — например, Гюнтеру — и встретиться с ним.
Вот только для чего. Удивить тем, что жив? Ни ему, ни им этого удивления не нужно. Рассказать, что произошло с ним за эти двадцать лет? Этого нельзя рассказать, да он и не сможет об этом рассказывать, чисто физически не сможет, на каком-нибудь месте обязательно сдадут нервы, и он сорвется на припадок. Прошлым не поделишься. Оно должно остаться только с ним, и никакой Гюнтер тут ни при чем. Университетские друзья, коллеги... Сгорело и быльем поросло.
Кому и правда можно позвонить — так это матери Кантора. Вон где огни города показались — далеко справа. Здесь, наверное, поля. Нет, даже ей звонить бессмысленно. Что сказать? «Я видел, как был убит ваш сын?» Радость невелика, да это и неправда, он не видел этого. «Ваш сын погиб, спасая меня?» Это все равно, что «вашего сына убили вместо меня». Или — «я друг вашего сына, он был героем». Да, Кантор был героем. Каждый, кто воевал на Валентине, — герой, но зачем это его матери? Нет, Хед Холл, в этом мире все устроилось без тебя, и ничего ни для кого не изменят твои свидетельства с того света. Сказано — пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов, сказано обо мне, подумал Холл, вот я и буду хоронить своих мертвецов, у меня их достаточно. Собственно, он так решил еще в Герате. Майор Абрахам, двухметровый красавец-негр, свежеиспеченный поклонник Витрувия и Брейгеля, спрашивал: «Ну что, профессор, как вернетесь, всех соберете — и учителей, и учеников?» И Холл отвечал: «Никого собирать не буду». Кончился тот срок, когда им еще было что друг другу сказать.
Кстати, вот она, схема маршрута.. Холл развернул сложенный вчетверо лист и пристроил на руле, кося в карту одним глазом. Зачем-то ему придумали крюк через Вроцлав, Густу, потом Прага, потом Брно — господи, когда-то в Брно они с Гюнтером умоляли Анну выпить с ними хоть полстакана пива, — затем Нитра, а оттуда, по пути дунайского тракта, прямая автострада до Варны. В его распоряжении трое с лишним суток. Ни много, ни мало. А сколько продержат до перехода через Окно? Тоже будет, наверное, разговоров. Что, интересно, станет с этой машиной? Кто следующий и куда поедет на ней?
Да, Окно. Впору усмехнуться, но он что-то разучился усмехаться, получается только носом дунуть. Все возвращается на круги своя. Забавная цепочка. Если бы не было открыто Окно, не было бы криптонского инцидента — кстати, его так и не решились назвать войной, — он бы не попал на эту войну и не познакомился с Овчинниковым и, значит, не был бы сослан на Территорию, а с Территории Звонарь не увез бы его на Валентину, и не было бы Герата и этого автомобиля, который везет его, как ни странно, вновь к Окну. Сидел бы он сейчас в Утрехте со своими малыми голландцами. Или в Лондоне. Или поехал бы в Кенносо, посмотреть на могилу матери. Он никогда не видел этой могилы.
Да, молоточки бы не стучали — колокольчики бы не звонили. Одна только Анна сама по себе и ни от чего не зависит. Двадцать лет, как ее нет на свете, и, однако, это отнюдь не убавляет того влияния, которое она имеет на его жизнь. До Вроцлава Холл уже больше ни о чем не думал; приехав в город, он ел и пил, а после отогнал машину на безвестную узкую мощеную улочку, затемнил окна и уснул. Спать Холл мог в любое время суток — в память о Валентине, где вспоминать о том, что существуют какие-то сутки, приходилось раз в неделю, а то и реже. Утром он был уже в Праге.
Прага была вовсе не золотая, а мокрая и нахохлившаяся, в черных деревьях и фигурных потеках по стенам соборов; по ней гуляли весенние ветры, и в желобах рельсов романтического древнего трамвая бежали холодные, но бурлящие оптимизмом ручьи. Здесь воспоминания так плотно обступили Холла, что у него перехватило горло и даже позабылся мерзостный сорок второй колодец, который снова мучал его во сне и ухитрялся пробиваться в сознание наяву. Любопытно, что, если не считать грязевых водопадов, как раз в сорок втором ничего страшного не происходило, лишь однажды очень аккуратно пришкварило к борту бронетранспортера — на плече до сих пор оставался треугольный белый рубец — вздор. И вот надо же. Но Прага...
Он въехал в город со стороны Жижкова, тут все перестроили, Холл долго не мог сориентироваться, и в растерянности катил по безлюдным утренним улицам, пока, наконец, не выскочил к Университетскому городку, а от него — к Старому Рынку. Отсюда он мог бы добраться хоть с закрытыми глазами, и через три минуты был уже возле дома Анны — одного из трех пастельно-белых небоскребов, составленных в традиционную фигуру банкетного стола.
У Холла внутри все сжалось, стало и больно, и одновременно светло, и нехорошо, и еще бог знает как. Он вышел из машины напротив ее подъезда, где стоял, наверное, сто и больше раз, и вот теперь стоял снова, даже забыв про сигареты, засунув руки в карманы и упираясь в асфальт длинными худыми ногами, и неизвестно почему волновался так, словно сейчас, как тогда, откроется стеклянная дверь и выйдет Анна с неизменным конским хвостом на затылке и в чудной желтой куртке, наводящей на мысль о спасении на водах.