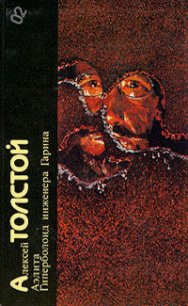Второе пришествие инженера Гарина - Алько Владимир (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
*** 60 **
Германию и Австрию всегда объединяли дружественные, если не сказать родственные связи. Общность языка, границ, культуры, политика и дипломатия многих веков, быт и обычаи простых людей. Граница двух стран была как редко где прозрачна. Пересечь ее не составляло труда. Было на что посмотреть и здесь, и там. Вот и Хлынов в свободное от семинаров и ученых штудий время пристрастился к поездкам в соседнюю Германию. Он уже посетил Берлин, Лейпциг, теперь вот – Мюнхен. Эта последняя поездка навела Хлынова на один престранный разговор с Рейхенбахом и, в конечном счете, способствовала крушению целой его жизни.
В тот день он посетил Старую пинакотеку Мюнхена. Почти в одиночестве бродил пустынными великолепными залами и кабинетами. Созерцал непреходящий драгоценный колорит и эффектность барокко школы фламандских мастеров; мельком взглянул на пусто-гладкие фарфоровые личики мадам от Гойи, восхитился фантастической техникой письма полузабытого Грюневальда, – блистающими доспехами и богатой парчовой тканью его кисти в картине «Встреча св. Эразма и св. Маврикия», отдал должное Пуссену, Дюреру, но равнодушно прошел мимо работ Липпи и ему подобных, ничего не говорящих ему имен. (В искусстве Хлынов все же полагался на авторитеты, не надеясь «алгеброй поверить гармонию»).
Так, незаметно от эпохи к эпохе, он вышел к некоторой небольшой экспозиции, в новой, недавно пристроенной галерее, и где, по-видимому, были представлены современные школы и течения. Посетителей и здесь было немного. Старик-смотритель, в тапочках с козлиным верхом, гулко кашлянул. Хлынов из чувства какой-то ложной деликатности (будто в гостях) прошелся туда – сюда. Среди этих тревожных, смутно понимаемых им работ, одна картина привлекла его пристальное внимание. Казалось, что ее поместили сюда по ошибке. Это была вещь в стиле золотистых марин Клода Лоррена (1600–1682 гг.), но без даты работы и подписи художника. Экспонировалась она под названием «Королева Золотого острова», что и вычитывалось из рядом прикрепленной бронзовой таблички. С тугой волной крови, прилившей к затылку, Хлынов вгляделся в картину. В сияющем мареве помпезной композиции дворца с колоннами и портиком, с зауженными кверху стенами и неожиданно плоской, как у пагоды крышей с великолепным аттиком, на ступеньках лестницы, подымающейся прямо из моря, была изображена женщина в белоснежной хламиде, с высоким заломом волос, полумесяцем алмазного гребня в прическе, с лицом надменно-красивым и мечтательно-отрешенным, – достойной какой-то необычной миссии и цели. В одной ее руке был земной шар, в другой – оливковая ветвь, на плече – голубь. По воде, со стороны моря, к дворцу стремилась многовесельная барка. Еще один парусный корабль стоял у пирса, с него сходили празднично одетые люди, с дарами и цветами, иные, приклонив колени, раболепно взирали на своего кумира. Во всей работе, вкупе с относительно большими ее размерами – дурной классицизм (вернее подражанию ему), вычурность, зализанность и сухой линеарный рисунок. Если бы не найденный истинно свет Лоррена, прозрачная акварель неба, глубокие синие и бирюзовые тона моря – все произведение можно было бы счесть поделкой. Писалась она явно наспех, больше по воображению, да еще с каких-то фотографий. Да, да, он, Хлынов, знал эти снимки, послужившие полуфабрикатом к самой этой художественной работе. Фотографии эти были чрезвычайно популярны в середине 20-х. Бульварная пресса тех лет беспардонно тиражировала изображение этого лица в своих иллюстрированных изданиях. Картинная высокая прическа мало, что меняла от того образа, с короткой мальчишеской стрижкой и ледяным взглядом кинозвезды эпохи немых фильмов. Большие размеры картины и ученически старательная прорисовка деталей только подкрепляла достоверность сходства. Итак, насколько он был в памяти, Хлынов лицезрел перед собой преображенную кистью художника Зою Монроз, легендарную мадам Ламоль, подругу и сподвижницу Гарина, на фоне дворца (в картине что-то вроде храма древних инков), кокотку высшего разряда, также как авантюристку и воительницу, предводительницу пиратского судна «Аризона», грабившую суда на линии Пасифик, в Тихом океане, поджигающую гавани и набережные приморских городов, обкладывающую их данью. Оставалось только гадать, по какому случаю эта картина оказалась в пинакотеке города Мюнхена, когда она была заказана, и видела ли ее сама мадам Ламоль (или даже позировала художнику)?
Со всем этим вздыбившимся воспоминанием Хлынов и вышел из музея на улицу, в серый будничный день. Ему было неловко признаться, но он загрустил, – эти каменные рогатки большого города, постные лица прохожих… живущих так себе – походя. Из мира что-то ушло вместе с теми двумя, на канувшей в пучине яхте «Аризона». Что-то, – что похищаемо людьми не иначе, как с неба; как прометеева искра.
Вздохнув, и ни о чем больше не сожалея, Хлынов отправился на железнодорожный вокзал, к поезду, следующему до Берлина.
*** 61 ***
В вечер ближайшего дня (это был четверг) у него с профессором вышел разговор о соотношении субъекта и объекта в общей картине познания вселенной. Парадоксы новейшей физики давали повод думать в манере смелых спекуляций. Признав рассудок за ограниченный, хотя и неимоверно гибкий инструмент познания, Рейхенбах последовательной аргументацией все свел на точку зрения «наблюдателя», придя к крайнему субъективизму. Хлынов также решительно возражал ему, обвиняя в незнании диалектического материализма.
Профессор хладнокровно отнекивался:
– В конце концов, – заявлял он, – привычка рассматривать любое событие, как от нас не зависящее, приводит к такому же абсурду. Возьмем элементарное: если А больше Б, а В равно А, то Б меньше В. Но приняв исходные А, Б, В, за нечто существующее, откуда тогда это «если», как не из чистого волевого акта познания? Тем не менее, игнорируйте этот субъективный фактор, и от всего познавательного процесса ничего не останется. Чему тогда вы отдадите предпочтение?
Профессор добро усмехался, находя в подобном антропоцентризме противоядие эпохи социального одичания и дегуманизации личности.
Фрау Марта, склонив голову, с укором прислушивалась к спорящим. Да в своем ли они уме? Не уместнее ли будет сказать: «Потерявший голову по волосам не плачет». Странными, ой какими странными бывают иногда очень умные люди. Белесые пятна недоедания ложились на личико женщины; серые обескровленные губы, лихорадочные глаза. Всего-то год, как они здесь, а уже познали и нужду, и одиночество. Если небо сколько-нибудь нуждается в человеке, почему тогда, как само собой, подготовляется его самоуничтожение. «Всякий приумножающий знание, приумножает скорбь», – говорится в одной святой книге их древних предков. И этому Молоху познания служит ее муж. Страшно, ой, как страшно быть человеком. Со страхом фрау Марта вслушалась в разговор.
Профессор тем временем продолжал:
– Кстати, – говорил он. – Вы, русские, сами в первую очередь отличаетесь неким взрывным идеализмом. Мой семинар посещали датчане, англичане, французы, бельгийцы, и все они желали чего-то в рамках конкретного… применительно к тем научным абстракциям; повышения своего теоретического уровня, к примеру. Никто из них не выказывал желания перевернуть тем мир. Но вот еще в бытность мою в Берлине, лет пять назад, или чуть меньше, ко мне на лекции записался вольнослушателем один человек. Почему русский? Действительно. Он имел почти южный колониальный загар лица, сдержанные манеры. Но, знаете ли, здесь… прошу прощения, еще там, по двадцатым годам, в Берлине, я нагляделся на вашего брата эмигранта… Я не совсем точно формулирую? Ну, пусть, все, что я хочу сказать – он был из ваших… недюжинных способностей, едкого ума, и того взрывного, что ли, экстремистского типа мышления… Н-н, да. Понять его не всегда было можно. Изъяснялся он недомолвками: как будто имел уже какие-то практические соображения. Насколько я знаю, его увлекли особенности передачи и сохранения импульса в замкнутых системах; в рамках ОТО (общей теории относительности), вы понимаете… Несмотря на известную абстрактность темы, этот странный физик все переводил в некую инженерную плоскость… В частности, интерпретацию Эйнштейном гравитации, как рода метрических особенностей пространства, он привязывал к понятию абсолютной жесткости тех или иных координативных дефиниций… словно бы уже собирался испытывать их на прочность, – авось что-нибудь из этого и выйдет… Говорил он, правда, вскользь и намеками, из чего, собственно, мне и померещилось необоснованная трактовка всего этого предмета. Кстати, опять же в рамках ОТО, малейший механический импульс, наращиваемый в системе абсолютной жесткости, тотчас приведет к бурному гравитационному возмущению, – будь, конечно, в природе такое тело. Помнится, мы даже поспорили с ним.