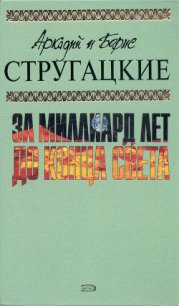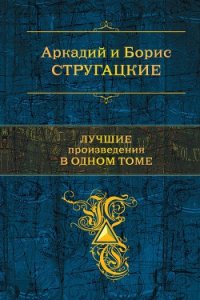Дни Кракена - Стругацкие Аркадий и Борис (книги онлайн полные txt) 📗
Глава восьмая
Я спустился в вестибюль, раздумывая, не поужинать ли в ресторане. Я сильно проголодался, вероятно, из-за двух рюмок коньяка, выпитых у Хиды. До получки оставалось около тридцати рублей, и я мог позволить себе лапшу с подливой, стакан вэймэйсы и чашку кофе по-турецки. Неплохо было бы вареного осьминога, но осьминогов в “Пекине”, по-моему, никогда не подавали. Вообще после того, как уехали китайские повара, готовить здесь стали гораздо хуже. Осьминога бы наверняка испортили, а лапшу не испортишь, разве что она подгорит, вино разливают в Китае, кофе везде одинаковый.
Я повернул к ресторану и вдруг увидел Нину. Мне кажется, что за секунду до этого я почувствовал, что увижу ее. Что-то мягкое толкнуло меня в сердце, и я задохнулся. И меня опять охватило чудесное и горькое ощущение великой утраты и грустного счастья, и я остановился, чуть не плача от радости и жалости к ней и к себе, и все сразу вылетело у меня из головы. Японец, вэймэйсы, спрут - все. Я стоял в десяти шагах от входа в ресторан и в десяти шагах от дверей уборных и смотрел на нее, и глотал и не мог проглотить комок, застрявший в горле. Через минуту это прошло.
Она стояла у стола перед почтовым барьером и разговаривала г. какой-то иностранкой в очках. На ней был белый джемпер и широкая клетчатая юбка, она рассеянно улыбалась, похлопывая себя по бедру плоской белой сумочкой, крупная, стройная, с прекрасным неправильным лицом, с массивной копной темных волос на прекрасной голове, с крепкой длинной шеей, с маленькой грудью и сильными толстоватыми ногами, бесконечно женственная и прекрасная, хотя я понимал, что по-прежнему никто кроме меня этого не знает и не замечает. Она словно совсем не изменилась, а, может быть, она не изменилась только для меня, даже наверное так, недаром я видел ее такой в самых лучших своих снах, когда и думать не смел увидеть когда-нибудь наяву.
Она стояла и разговаривала с иностранкой, а я стоял и смотрел, не в силах оторваться, не в силах заставить себя уйти и не в силах заставить себя подойти к ней. Тут она, скучая, повернула голову и увидела меня. Она рассеянно глядела на меня, продолжая говорить, потом замолчала на полуслове, и глаза ее потемнели и словно распахнулись, и одно-единственное мгновение она смотрела на меня так, как в то утро, в славном пустом сквере, когда маленькая дочка ее играла в песке у наших ног. Но это длилось одно-единственное мгновение. Она улыбнулась, кивнула и помахала мне рукой. Иностранка тоже посмотрела на меня и тоже улыбнулась, что-то сказала Нине, и они обе засмеялись. Потом иностранка ушла, вихляя тощим задом, и мы пошли навстречу друг другу и встретились посередине вестибюля.
- Здравствуй, Андрюшенька, - сказала она радостно. - Вот так неожиданность!
У нее были горячие, чуть-чуть влажные от жары руки, и я поцеловал эти руки, правую, в которой она держала сумочку, и свободную левую, и опять правую, и она отняла их от меня, опустила и сложила на животе. Я решился и поднял глаза. Она стала как будто выше ростом, потому что ее глаза были теперь на уровне моего подбородка. Ее лицо находилось совсем близко, сантиметрах в тридцати. Я увидел свое отражение в ее зрачках, и крошечные капли испарины на лбу и на пушистой верхней губе, и жесткие морщинки возле глаз и по сторонам рта. И заросшие дырочки от сережек в мочках ушей. Она тоже разглядывала меня, выпятив нижнюю губу.
- Здравствуй, Андрюша, - повторила она. - Вот как мы встретились.
- Да, - тупо сказал я.
- Ты давно в Москве?
- Давно. Уже лет пять… нет, шесть лет.
- И ни разу не зашел. Эх ты. А еще старый друг.
- Я не мог.
- Неужели так занят?
- Я никак не мог, Ниночка. Честное слово. Никак не мог.
- Нельзя забывать старых друзей.
Так могла сказать и Юля Марецкая. Но ведь мы встретились. Она не отвернулась. Она могла кивнуть и отвернуться. Могла даже не кивнуть. Но вот мы стоим в тридцати сантиметрах друг от друга и разговариваем, и она разглядывает меня, выпятив нижнюю губу. Она всегда так делала, когда была озабочена.
- Андрюша, - сказала она почти с испугом, - ты совсем седенький стал!
- Это от веселой жизни.
- Что, неужели так плохо?
- Отчего же плохо? Просто трудно.
- Работа?
- И работа. И всякие другие вещи.
- Бедненький.
- И возраст, Ниночка.
Она вздохнула.
- Да, возраст. Ну, а я?
- Что?
- Я сильно изменилась?
Я помотал головой. Она обрадовалась.
- Нет?
- Ничуть.
- Правда?
- Честное слово. Ты прелесть и женщина.
Не знаю, как это у меня вырвалось. Но она либо забыла, либо не обратила внимания.
- Как приятно слы-ышать! - сказала она. - Только не очень-то завидуй, Андрюшенька. Это наполовину косметика. Парикмахерская, кабинет красоты.
- Неправда.
- Правда. У меня тоже очень утомительная жизнь. Хлеб свой насущный снискиваю в поте лица. И души, между прочим.
- Не сердись, - попросил я. - Я только хотел сказать, что ты совсем не изменилась.
- Я стараюсь. Но знал бы ты, как это трудно, Андрюшка!
Она нагнула голову. Некоторое время мы молчали, и я смотрел, как от моего дыхания шевелятся отставшие волоски на ее макушке. Она подняла лицо.
- Глупости, - сказала она решительно. - Все это глупости. Работа есть работа. Я что-то расклеилась сегодня. Слушай, я тебя не задерживаю?
- Что ты, конечно нет.
- Разве ты здесь один?
- Где - здесь?
- В ресторане. Я думала, ты вышел из ресторана. Нет?
- Вовсе нет. В ресторане я не был. Имеет место на редкость одинокий Головин, который как раз собирается поужинать. Разреши пригласить тебя, Ниночка.
- Я бы с радостью, - сказала она, - но не могу.
- Почему?
- Во-первых, я только что ужинала.
- А во-вторых?
- Понимаешь, Андрюшенька, мне пора домой. Одиннадцатый час.
Я оглянулся на часы над гардеробом. Было пять минут одиннадцатого.
- Тогда разреши проводить тебя.
- Проводи, - просто согласилась она. - Это недалеко, да ты помнишь, наверное.
- Помню, - пробормотал я.
Мы вышли из гостиницы, повернули направо и медленно пошли по Садовому. Нина жила на улице Алексея Толстого.
- Где ты работаешь? - спросил я.
- В “Интуристе”.
Она взяла меня под руку. Я чувствовал сквозь рукав, какие у нее горячие и твердые пальцы, ее юбка задевала мое колено, и я опять, впервые за долгое, долгое время ощутил великое чудо и великую прелесть женщины, прелесть женского голоса, женских интонаций, и мне было необыкновенно хорошо.
- Ты со мной не шути, - сказала она. - Я старший гид-переводчик, вот кто я.
- Ты прелесть и женщина, вот кто ты, - сказал я на этот раз умышленно. Она промолчала. - Ты работаешь с японским?
- Что ты, с английским, конечно.
- Забыла?
- Начисто. Корэ-ва кабан дэс. Больше ничего не помню.
- Не жалко?
- Не знаю. Пожалуй, жалко. Слушай, Андрюша, ты встречаешь кого-нибудь с нашего курса?
- Очень редко. Майского вот встречаю. Помнишь Петю Майского?
- Майский, Майский… Он ведь турок?
- Почти. Арабист. Орлов в министерстве иностранных дел, Мишенька Сегал в радиокомитете, он недавно был у меня. Кстати, а не помнишь ты Юлю Марецкую? Она училась на два курса позже нас.
- Марецкую? Комсорга? Ну как же, очень хорошо помню. Она была такая беленькая, хорошенькая; очень серьезная и не умела одеваться.
- Вот, вот. Она сейчас работает в том же издательстве, что и я.
- Нет, Юлю Марецкую я хорошо помню. Году в пятидесятом я отказалась подписаться на заем, и мы с ней немножко повздорили, Она назвала меня девкой и антисоветской сволочью и сказала, чтобы я не смела заходить в уборную на нашем этаже. Сказала, что уборной имеют право пользоваться только честные студентки.
Я остановился и заглянул ей в лицо. Она спокойно улыбалась.
- Ну что ты остановился? Не веришь? Правда, правда. Я ее не послушалась, потому что, ты сам понимаешь, деваться мне было некуда. Но я весь месяц тряслась от страха, что меня лишат стипендии. Это у меня была полоса неприятностей. Нас обворовали, умерла мама, Наташка заболела скарлатиной, и, боюсь, я вела себя немножко нервно. Господи, как давно это было!