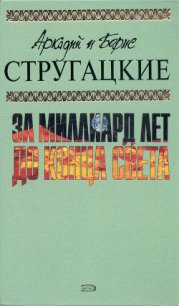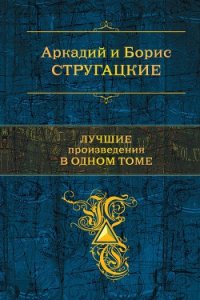Дни Кракена - Стругацкие Аркадий и Борис (книги онлайн полные txt) 📗
- Это японец тебе подарил? - спросила Нина.
- Да, я подарил ему бутылку водки, и он сказал, что будет угощать своих друзей. Ну а я угощаю своих.
- Большое спасибо, - сказала Наташа, - мамочка, смотри, какая хорошенькая.
- Очень хорошенькая, - согласилась Нина. - А теперь ступай.
- Иду, мамочка, ты же видишь, я уже иду. Спокойной ночи. Андрей Сергеевич, спокойной ночи. Приходите к нам еще есть яичницу.
- Наталья! - сердито сказала Нина.
- Непременно, - пообещал я вполне искренне.
Она поцеловала Нину, повернулась ко мне, сделала книксен, приподняв кончиками пальцев подол своего короткого сарафана, и удалилась. Чудная девчонка. И в ней, конечно, есть много от матери. Какая-то милая угловатая гибкость, не знаю, как это объяснить. Я отодвинул стакан и встал.
- Спасибо, Ниночка, - сказал я. - Тебе тоже пора спать. Всем пора спать.
- Да, - пожаловалась она, - я встаю рано.
Мы вышли в прихожую. Я пропустил ее вперед и плотно прикрыл дверь.
- Когда мы увидимся? - спросил я.
- Не знаю.
- Тогда я знаю. Мы увидимся завтра. Давай?
- Не получится, Андрюшенька. Завтра я со своими англичанками уезжаю в Минск.
- Ну вот! - Я расстроенно поглядел на нее.
- Ничего, это всего на два-три дня. Постой-ка…
Она подошла ко мне вплотную и стала поправлять мой галстук. Тогда я взял ее за плечи. Она вздохнула и опустила руки. Я поцеловал ее.
- Господи, - сказала она. - Господи, как давно это было.
Я поцеловал ее еще и еще раз.
- Не надо, - сказала она жалобно, - иди, пожалуйста. Иди, Андрюшка. Иди. Ну прошу тебя. Это же все было. Было. Было.
Глава десятая
Утром я позвонил в издательство и сказал Люсе, что буду не раньше среды. На моей совести было еще шестьдесят фотокопий, но заставить себя копаться в словарях оказалось после вчерашнего не так-то просто. Я лежал на диване, заложив руки за голову, глядел в белый потрескавшийся потолок и думал о Нине. Вернее, не думал, а видел и ощущал, какой она была вчера. Как она поднимала руки, чтобы поправить волосы. Как у нее дрожал подбородок, когда она старалась удержаться от смеха. Как стучали каблуки по асфальту. Как у нее напряглась спина под моей ладонью и как она закрыла глаза, когда я поцеловал ее в губы. И какие у нее были горячие губы, мягкие и сухие. Великое колдовство памяти о своей нежности. Так можно было пролежать и сто лет. Самое скверное то, что понемногу начинаешь жалеть самого себя. Я рывком поднялся и сел.
Развлечемся. Вот передо мной стеллаж. Это моя библиотека, семь некрашеных полок, набитых книгами. Строго говоря, это моя пятая библиотека. Одна осталась у Нины. На улице Алексея Толстого, на пятом этаже. Я привез из общежития два чемодана книг, книжного шкафа не было, и мы сложили книги в комод. Интересно, где они сейчас. Наверное, в Наташкиной комнате, в моей комнате. А первая моя библиотека погибла в Ленинграде в сорок первом году. В дом попала бомба. Сейчас на месте дома приличный скверик. Я в то время был под Одессой, и при контратаке у Сухого Лимана румын проломил мне нос прикладом. Огромный заросший румын в желтой шинели с тусклыми пуговицами. Его тут же приколол маленький черноглазый матрос с окровавленной головой. Матрос тогда крикнул: “Живем, салага!” Через минуту его убили.
Вторую библиотеку я бросил в Порт-Артуре. Это было в сорок седьмом году, я еще не умел читать по-японски и не надеялся когда-либо научиться. Я был глуп. Отличная была библиотека, раньше она принадлежала японскому коммерсанту. Ирина из медсанбата приходила, стояла у шкафа, водя пальцем по корешкам, и вздыхала. Она была коротенькая, полногрудая, в мелких кудряшках, и чувствительно пела под гитару низким звучным голосом. Третья библиотека осталась на улице Алексея Толстого. Четвертую я отдал Поронайскому дому культуры, когда в пятьдесят шестом году возвращался на материк. Оставил себе только японские книги, которые подарил мне капитан “Конъэй-мару”. Две книги: томик Кикутикана и “Человек-тень” Эдогавьг. Кто бы мог подумать, что у капитана такой вонючей галоши окажется Кикутикан?
На палубе “Конъэй-мару” было скользко и пахло испорченной рыбой и квашеной редькой. Стекла рубки были разбиты и заклеены бумагой. Валентин, придерживая на груди автомат, пролез в рубку. “Сэнтё, айда”, - строго сказал он. К нам вылез капитан. Он был старый, сгорбленный, лицо у него было голое, под подбородком торчал редкий седой волос. На голове у него была косынка с красными иероглифами, на правой стороне синей куртки тоже были иероглифы, только белые. На ногах капитана были теплые носки с большим пальцем и гэта. Стуча гэта по палубе, капитан подошел к нам, сложил перед грудью руки и поклонился. “Спроси его, знает ли он, что находится в наших водах”, - сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что не знает “Спроси его, знает ли он, что лов в пределах двенадцатимильной зоны запрещен”, - сказал майор. Я спросил. Капитан ответил, что знает, и губы его искривились, обнажив редкие желтые зубы. “Скажи ему, что мы арестовываем судно и команду”, - сказал майор. Я перевел. Капитан часто закивал - или голова его затряслась. Он снова сложил ладони перед грудью и заговорил быстро и неразборчиво. “Что он говорит?” - спросил майор. Насколько я понял, капитан просил отпустить его. Он говорил, что им нужна рыба и что они не смеют вернуться домой без рыбы. Он говорил на каком-то диалекте, вместо “ки” говорил “кси” и вместо “цу” говорил “ту”. Понять его было очень трудно.
Вон они стоят рядышком, Кикутикан и Эдогава, между томом Куникиды веером картонном чехле и выпуском “Фудзин корон” за август пятьдесят восьмого года. Пошлейший журнал, как и все женские журналы мира. Надо будет его выбросить или подарить Косте, там есть, кажется, фото японских балерин. Костя любит такие фото. Я тоже когда-то любил. А левее “Фудзин корон” стоит мрачный темно-зеленый “Военный японско-русский словарь” издания, по-моему, тридцать седьмого года. Его тоже надо будет выбросить. Вообще пора как следует почистить библиотеку. Это моя пятая, и шестой у меня уже не будет.
Вот, например, на третьей полке в углу имеет место целая выставка очень разнородных предметов, которым там совершенно нечего делать. Посмотрим. Две коробки библиотечных карточек, пыльные руины ленивой попытки создать японо-русский математический словарь. Еще одна коробка библиотечных карточек, исписанных французскими словами, следы увлечения французским языком. Это бывает даже с заскорузлыми пессимистами, этакий приступ рвения, когда человек набирает кучу интересных французских книжек, составляет солидный план занятий, накупает библиотечных карточек для слов, целый месяц в соответствии с планом зубрит слова в метро и в троллейбусах и уже приценивается к Мопассану в оригинале, но тут случается чей-то день рождения, и на другое утро человеку уже не хочется французского, а хочется только пить, а еще через день наступает праздник с двумя выходными, а затем оказывается, что французские книжки куда-то девались, карточки перепутаны, план потерян и вместе с ним всякая потребность в оригинальном Мопассане.
Позади коробки с французскими карточками стоит настольный психотермобарометр, изящный на вид прибор, непоколебимо показывающий “к ясной погоде”, плюс один градус и сто процентов. Мне подарили его друзья на день рождения, предварительно уронив в переполненном автобусе. Каждый раз, когда он попадает мне на глаза, я вспоминаю своих друзей. Это плохо, друзей надо помнить всегда - прекрасное правило, следовать которому также трудно, как и любому другому, столь же прекрасному. Рядом с прибором располагаются две пачки сигарет “Друг”, мраморный стакан для карандашей с пришедшей в негодность авторучкой и наполовину пустая пачка кукурузных хлопьев глазированных. Обособленно стоит пустой флакон из-под духов. Интересно, что может сказать такой набор предметов острому наблюдателю? Если учесть, что я пищу только карандашами или печатаю на машинке, терпеть не могу кукурузных хлопьев, курю только “Памир” и никогда не пользуюсь духами. Впрочем, я ни разу в жизни не встречал острых наблюдателей. Подозреваю, что это не столько объективная реальность, сколько литературный прием. Вроде выражения “в глазах ее вспыхнула нежность”.