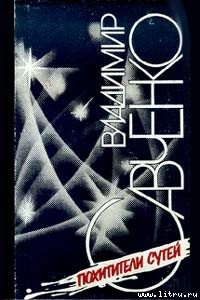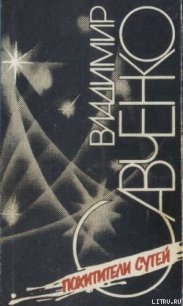Должность во Вселенной - Савченко Владимир Иванович (первая книга TXT) 📗
И только когда размытая вихревая туманность вдруг (в масштабе миллионов лет в секунду это получалось именно вдруг) конденсировалась, начиная от середины ядра и глубин колышущихся рукавов, во множество пульсирующих, набирающих голубой накал комочков, а те сворачивались в точечные штрихи, когда этот цепенящий души процесс распространялся до краев Галактики, когда все вращающееся над куполом кабины облако будто выпадало дождем звезд, а они надвигались, распространялись во все стороны, становились небом, застывали во тьме пульсирующим многоцветным великолепием, — вот тогда они чувствовали, что находятся во Вселенной — огромной, прекрасной и беспощадной. Не было «мегапарсеков» — обморочно громадные черные пространства раскрывались во всю глубину благодаря точкам звезд. Не было «мерцаний», «штрихов», «вибрионов» — были миры. Понимание масштабов и прежние наблюдения прибавляли лишь то, что эти раскаленные миры — конечны.
Миры, как и люди, жили и умирали по-разному. Они мчались в потоке времени, метапульсационного вздоха, взаимодействовали друг с другом, разделялись или сливались, набирали выразительность или сникали. У одних звезд век был долгий, у других — короткий: они позже возникали-сгущались-уплотнялись, раньше разваливались в быстро гаснущие во тьме фейерверки. У одних характер был спокойный: они равномерно накалялись, ясно светили, величественно и прекрасно взрывались на спаде галактической волны, оставляли на своем месте округлую яркую туманность, иные неровно мигали, меняли яркость и спектр, размеры и объем — то вспухали до оранжево-красных гигантов, то съеживались в точечные голубые карлики.
Жизненный путь многих звезд на галактических орбитах протекал в спокойном одиночестве — они отдавали свой свет, никого не освещая, испускали тепло, никого не согревая. Другие коротали век в компании одной или двух соседок: завивали друг около друга спирали своих траекторий, красовались округлостью дисков и их накалом, протуберантными выбросами ядерной пыли, светили одна на другую — я тебя голубым, ты меня — оранжевым.
На стадии звездообразования из светящегося прототумана возникало гораздо больше звезд, чем потом оставалось в зрелой Галактике. Самые мелкие сгустки быстро отдавали избыток энергии в пространство и гасли; в двойных и тройных системах они превращались в темные спутники светил, в большие отдаленные планеты — и так жили незаметно до сникания галактической волны-струи, до финальной вспышки и расплывания в ничто.
Миры, как и люди, жили и умирали по-разному.
Миры, как и люди, рождались, жили и умирали.
Буровские новшества работали отменно. Любарский указывал цель, интересную чем-то звезду; Анатолий Андреевич, уверенно дожимая педали и поводя штурвальной колонкой, приближался к ней до различимого в телескоп и на экранах диска. К одной могучей, размерами, вероятно, с Бетельгейзе, но куда большей плотности, звезде он подогнал кабину так, что на них повеял ее жар. И сам Толюня, и Варфоломей Дормидонтович сейчас чувствовали себя не пилотами, даже не космонавтами — какие космонавты могут так переходить от звезды к звезде, листать Галактики в пространстве и времени! — а скорее, небожителями. Богоравными.
И мир для них, богоравных, был сейчас иррационально прост; без земных проблем и человеческой запутанности в них: поток и волнение-вихрение на нем. Да и сложность жизни приобретала простой турбулентный смысл: это была сложность виляний отдельной струйки бытия существа под воздействием всех других в бурлящем потоке. Такое нельзя увидеть в MB ни в телескоп, ни прямо — но они понимали это.
— Та-ак… держитесь этой толстухи, мадам Бетельгейзе, Анатолий Андреевич, — приговаривал Любарский, уткнувшись в окуляр. — Не нравится… а вернее — очень нравится мне ее траектория. Интригует. Следуйте за ней, сколько сможете. По-моему, мадам беременна планетами.
Действительно, было в беге расплывчатого бело-голубого диска над ними что-то чуть вихляющее. Васюк медленно вел штурвал влево. Диск звезды сплюснулся, выпятился одной стороной, завихлял заметнее.
— Флюс, флюс! — возбужденно шептал Любарский. — Животик! Ну, сейчас…
Огненный «флюс» оторвался от звезды (ее уменьшившееся тело сдвинулось в противоположную сторону), растянулся в пространстве сияющим кометным хвостом. Хвост разделился на три части: дальнюю, серединную и ближнюю к звезде. Каждый обрывок изогнулся, завился вокруг светила дугой эллипса. Эти дуги-шлейфы величественно поворачивались около звезды; ближняя быстрее, дальняя медленнее всех. Светящийся туман переливался и пульсировал в них, тускнел, уплотнялся… и вот в каждой наметился сгусток-смерчик. Смерчики росли, наматывали на себя шлейфы тумана, втягивали его — и одновременно остывали, уплотнялись. Вскоре они были видны только в отраженном свете звезды. Так возникли планеты.
Васюк приотпустил правую педаль «время»: миллионы лет снова спрессовались в минуты. Нажал, вернулся — теперь вокруг уплотнившейся звезды с четким и очень ярким диском мотались три шарика. Они оказывались то серпиками, то полудисками, а при прохождении между светилом и кабиной — черными пятнышками на огненном фоне.
— Ай да мы! — удовлетворенно откинулся в кресле Любарский. — Исполнили больше, чем задал нам Буров: запечатлели образование планет! Все, Анатолий Андреевич, можно отступать.
…Отдалялась, сникала да точки «мадам Бетельгейзе» с искорками планет. Затерялась среди звезд. И все звездное небо стянулось в Галактику, теперь эллиптическую, с ярким ядром. Вот и она, голубея и съеживаясь, оказалась одной из многих; неразличимы там более звезды — да и во всех ли есть они?… Мириады светлых вихриков, расплываясь на спаде Метапульсационной волны, кружились над куполом кабины снежинками у фонаря. Мир снова был иррационально прост: поток и турбуленция в нем.
— Так я о Вселенской иерархии событий, — продолжал Варфоломей Дормидонтович с того места, на котором его прервали; но говорил он теперь без напряжения, благодушно-спокойно. Работа сделана, кабина опускается, можно и покалякать. — Она любопытна не только тем, что в ней последующие вкладываются в предыдущие, вмещаются в них по размерам и длительностям, но и тем, что предыдущие всегда — причины. Причина-поток. Подробно я об этом доложу на семинаре, а сейчас вот вам, Анатолий Андреевич, некоторые оценки масштабов… Ну, самое первое, Метагалактическая пульсация, Вселенский вздох. Количественные рамки события: порядка ста миллиардов световых лет в поперечнике и тысячи миллиарде! лет по длительности — вам вряд ли что скажут, это далеко за пре делами наших представлений. Просто примем этот событийный объем — 1045 световых лет в кубе, помноженные на год, — за единицу. Тогда событие второй ступени, Вселенский шторм, который вот сейчас гаснет над нами… он на порядок короче по всем размерам — составит по событийному объему одну десятитысячную от него. Отдельные волны-струи в этом турбулентном ядре, события третьей ступени, причины и носители Галактик или скоплений их, составляют не более одной тысячемиллиардной доли от Шторма, то есть порядка 10–16 от пульсации…
Любарский помолчал, усмехнулся сам себе:
— Нет, это без таблицы и указки невозможно. Не буду глушить вас числами, просто перечислю ступени. Следующая, четвертая, это Галактики-события — турбулентные ядра в струях. Пятая — звездо-планетная струя, возможный носитель… да и создатель — звездо-планетной системы, или просто звезды, или двойной-тройной системы их, как получится. Шестая — возникновение-существование-гибель… то есть просто жизнь — звезд и планет, небесных тел. Далее все ветвится, но применительно к планете пусть седьмая — существование биосферы, восьмая — существование животных, девятая — существование человечества… и, бог с ними, с промежуточными: существованиями народов, государств, эпох — пусть сразу десятая ступень, следствие десятого — всего лишь! — порядка от Вселенской Первопричины это жизнь человека. Наша с вами жизнь. Самое главное, главнее не бывает, — для нас. Так знаете, как количественно ее событийный объем соотносится с Метапульсацией?