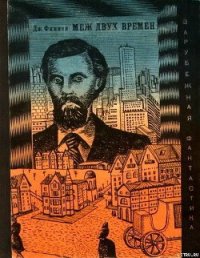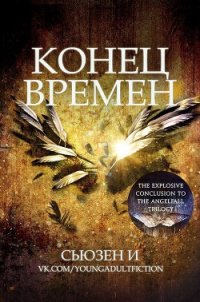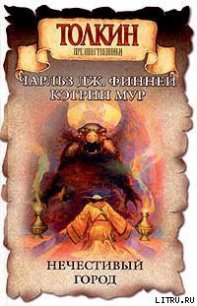Меж трех времен - Финней Джек (читать книги без сокращений TXT) 📗
Мы летели над Манхэттеном к зеленому пятну в форме шлепанца - это был Юнион-сквер; в последний раз я видел его, когда вместе с Джулией и Вилли смотрел ночной парад. Навстречу нам скользил, уплывая назад, лабиринт ранних улочек Манхэттена: коротких, кривых, извивающихся; строгая упорядоченность улиц выше Четырнадцатой осталась позади. Я взглянул на Фрэнка, кивая и улыбаясь в знак того, насколько мне все это по душе. И он улыбнулся в ответ со снисходительным пониманием человека, который видел эту картину много раз, но неизменно готов снова и снова показывать ее другим.
Узкий силуэт колокольни церкви Святой Троицы все еще одиноко чернел в небе... Затем Фрэнк кивком указал на восток, и мы начали полого и довольно быстро снижаться к городу - улицы, расширяясь, неслись навстречу, разноцветные точки стремительно увеличивались, превращаясь в людей.
Видимо, Фрэнку захотелось немножко попугать меня. Я почувствовал, как ремень врезался в тело - аэроплан накренился, поворачивая и одновременно продолжая снижаться. Мелькнули мачты серого военного корабля, стоявшего на якоре у бруклинского берега, а мы все неслись вниз, продолжая поворот, и плоская серая гладь Ист-Ривер расширялась нам навстречу.
Мы перешли в горизонтальный полет, когда до воды оставалось никак не больше двадцати футов. Фрэнк лишь на долю секунды оторвал глаза от реки, чтобы украдкой бросить взгляд на меня; я должен был испугаться, и я испугался, да еще как! Потому что прямо впереди - и я пришел в ужас, поняв значение этого взгляда Фрэнка - парил Бруклинский мост... и аэроплан должен был пролететь под ним!
Секундой позже аэроплан нырнул ниже и торжествующе проскользнул под мостом. А затем Фрэнк вынырнул из-под моста - прямо над трубой буксира. И выхлоп обжигающего пара, вырвавшийся из трубы, подхватил наш хрупкий маленький воздушный змей и затряс, затряс его, беспомощного, изо всей силы, как терьер трясет пойманную мышь.
Фрэнк что есть силы давил на рычаги, пытаясь вернуть управление машиной, но получалось это у него с трудом. Мы едва не рухнули, пролетев близко, дьявольски близко от воды. Лицо Фрэнка окаменело, он вцепился в свой крохотный самолетик, а тот трясся, подпрыгивал, никак не желая подчиниться рулю и выйти из опасного спуска, и ремень глубоко впивался в мое тело.
И вдруг все кончилось. Мы не разбились, не грянулись что есть силы о воду, но взмыли вверх по точной и изящной дуге, уже вне опасности.
Я обрел дар речи.
- Фрэнк, - сказал я, - расскажите-ка мне еще раз о перелете через Атлантику. О тщательной подготовке. О предусмотрительности. Об осторожности. Обо всех этих добродетелях, которые так необходимы авиатору.
- Извините, - пробормотал Фрэнк. - Ради Бога, Сай, извините меня. Я вел себя как последний дурак. - И прибавил, вдруг обозлившись на себя: - Обычно я летаю совсем не так!
Аэроплан снизился к пирсу А, легко коснулся воды и медленно двинулся к плоту.
- Но в тот день, когда человек будет готов лететь через Атлантику, ему конечно же понадобится тщательная подготовка. И скрупулезная предусмотрительность. И безграничная выдержка. Все это, Сай, все эти добродетели. Но в последний миг, когда он поднимется на аэроплан и окажется лицом к лицу с Атлантическим океаном, - тогда ему будет нужна и самая чуточка безудержного безрассудства.
19
Эту программку в обмен на два билета на «Грейхаунд» подала мне «гибсоновская девушка» - идеальная американка, какой изображал ее на своих рисунках Чарльз Гибсон, стройная, с узкой талией и пышной прической «помпадур». На ней было серое форменное платье с большим белым воротничком, огромный галстук-бабочка и значок с надписью: «Билетер». Она провела нас с Джоттой на наши места в партере, и когда мальчик лет двенадцати в красной курточке с латунными пуговицами прошел между рядов, продавая длинные тонкие коробочки мятных шоколадок, я купил у него коробочку.
Я огляделся: люди заполняли все проходы между рядами, понемногу разбредаясь по местам. Где-то среди них должен появиться Z, может быть, уже появился; вполне вероятно, что в этот миг я как раз смотрю на него. По всему зрительному залу великолепные женщины с пышными прическами, в платьях с высокими воротничками рассаживались, снимая свои неправдоподобно огромные шляпы - осторожно, приподнимая шляпу обеими руками, как это сделала и Джотта. На ней было длинное светлое платье и розовая шляпа добрых десяти футов в диаметре. Мужчины во всем зале выглядели почти одинаково: жесткие воротнички, коротко подстриженные волосы, чаще всего разделенные на прямой пробор; некоторые носили пенсне. Носит ли Z пенсне? Я так не думал, но и это вполне вероятно.
Сцену закрывал тяжелый и длинный красный занавес, окаймленный снизу массивной золотой бахромой длиной по меньшей мере в фут; на его бархатных складках лежали тени от огней рампы. Есть ли в этом зале человек с душой настолько зачерствевшей, что она не затрепещет в те мгновения, когда таинственный занавес вот-вот взовьется над сценой? Хоть я и помнил, что в будущем театральный занавес исчезнет, оставив зрителя одиноко таращиться в пустоту.
Джотта, сидевшая рядом со мной, изучала свою программку; я заглянул в свою, посчитал и повернулся к Джотте:
- Послушайте, здесь заняты целых двадцать шесть актеров!
На нее, однако, этот факт не произвел впечатления. Я подсчитал и сцены: целых шесть! Но теперь уже ничего не сказал, хотя сам был очень доволен. Мне надоели пьесы с одними и теми же декорациями, и тем более надоели пьесы, в которых участвуют только два актера.
Затем я заговорил об Уилсоне Мизнере, который был одним из авторов пьесы, а в жизни был изрядным плутом и мошенником. Джотта слушала с интересом, и мне это доставило немалое удовольствие. Мне приятно было ее общество. Мне нравилась Джотта и нравились люди, которым по душе Уилсон Мизнер. Он побывал на Юконе во времена золотой лихорадки, но не бродил по Аляске в снег и мороз, а в тепле играл в покер с золотоискателями и по большей части выигрывал. Однажды он играл в карты в каком-то юконском салуне, по совместительству - публичном доме, и какой-то мужчина вбежал туда с криком: «Кто-то оскорбил Голди!» И Мизнер, сдавая карты, осведомился: «Во имя Господа, как ему это удалось?»
Настал волшебный миг: огни в зале начали постепенно гаснуть, и вот уже спустилась кромешная темнота - если не считать газовых рожков под красными надписями «Выход». Затем, вызывая извечный трепет, взвился занавес, открывая на сей раз то, что в моей программке значилось как «Пансион в Сан-Франциско». Мы увидели скудно обставленную спальню: единственное окно, шкафчик, железная кровать... и Инь Ли, который стелил постель.
Что можно сказать об Инь Ли, кроме того, что я сидел в театре 1912 года и потому Инь Ли именовался здесь не «китаец», а «китаеза»? Мы сразу поняли, кто он такой, по раскосым подведенным глазам, желтой коже, черным матерчатым шлепанцам и знаменитой косичке, которая спускалась до пояса. И в тот же самый миг, когда мы увидели, как он небрежно стелет постель, по зрительному залу пробежал не то чтобы смех - ничего смешного он пока не делал, - но негромкий предвкушающий смешок, потому что... словом, потому что это был китаеза.
- Инь! - позвал из-за кулис женский голос, и Инь тотчас с отупелым видом поднял глаза, но не отозвался. Он нечаянно уронил подушку, неуклюже наступил на нее, вызвав смех в зале. Затем вошла миссис Феджин - домовладелица, как сообщила мне программка.
- Ты почему не приходишь, когда я тебя зову?
- Моя стелить постель.
- Ты в этом смыслишь меньше, чем свинья в апельсинах.
- Моя уходить! - Он скрестил руки на груди.
- Что, прямо сейчас?
Инь задумался.
- Скоро! - объявил он, вызвав новый приступ смеха у зрителей.
- Ладно, а пока что пойди прибери мою комнату.
И Инь удалился, распевая писклявую китайскую песенку - или, во всяком случае, то, что могло сойти за писклявую китайскую песенку, а мы опять засмеялись.