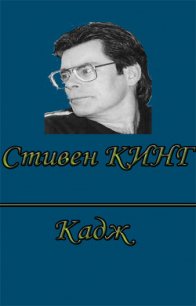Московские Сторожевые - Романовская Лариса (читать книги полные .txt) 📗
— Улыбнитесь, — почему-то просит она. И сама улыбается: так четко и аккуратно, будто показывает, как это надо делать. Не как в рекламе жвачки и пасты, а словно учительница у доски: вот так пишем букву «О», а вот так крючочек, а вот так улыбаемся… Смешно. Как в детстве. И легко тоже как в детстве. И даже хочется немножко побезобразничать, совсем чуть-чуть. Хорошо, что сегодня снег липкий, можно будет…
— Алинка, ты обертку от шоколадки не выбрасывай, мы из нее нос снеговику сейчас сделаем!
— Какому снеговику? — У дочки веснушки скрылись под толстым слоем шоколада. Вот бывают же чудеса, а?
— Большому, белому, важному такому. Мы его сейчас с тобой…
Надо бы обернуться, поблагодарить странную перламутровую прохожую. Но ее как будто нет сейчас. Взревел тремя нотами черный телефон в недрах модного пуховика, ощетинилась антеннка:
— Алло, Семен? Как хорошо, что ты позвонил! Сейчас, подожди секундочку, я…
Муж, наверное. А может, и нет — не было у перламутровой на пальце кольца, ни золотого, ни…
— Сейчас, Семен! Ну что, Алинка, пока?
— Пока-ааа…
— Маму больше не обижай?
— Лано…
— Спасибо вам, вы себе не представляете, какое именно…
— Сейчас, Сеня… А ты, Алинка, если передумаешь, то приходи ко мне жить… Хорошо?
— Хоосо… А ты мне купишь…
— Я тебе все куплю. Весь мир. Ага, Сеня, я сейчас буду. — Перламутровая поворачивается, чтобы куда-то бежать — кажется, на дорожную обочину, ловить частника. И вдруг притормаживает: — У вас перчатка не пропадала? Алинка, это не твоя висит?
Мохеровая перчатка и вправду перекинулась через кривые перила магазинного крыльца. Смешная такая, желтенькая. Как цыпленок. Как мимоза весенняя, честное слово. Или… нет. Как будто кто-то облака растормошил и выпустил им сюда солнечный луч. Весна будет.
Давно мне такие четкие сны не снились. Или это прошлая жизнь осколком вдруг выстрелила? Я бы и дальше посмотрела, но вот крылатик… Клаксон орал. Нагло, бодро и крайне весело, не понимая своим кошачьим умишком, что сейчас я как-то не в состоянии шкрябать по потолку мокрым веником, сшибая хрусталинки с люстры и развлекая этого крылаткиного детеныша.
Отсутствие оставшейся у Старого мамы-кошки и сгоревшей насмерть мамы-Доры Клаксона не смущало. Он оказался зверем вполне самостоятельным и на р-р-редкость активным, требующим корма и внимания, причем одновременно. Именно благодаря нехитрой схеме «кормить — играть — снять с люстры — убрать — кормить — убрать — снять с занавески в ванной — опять кормить» я не спятила, не впала в маразм и панику, и каким-то непостижимым образом справилась со своими рабочими обязанностями.
В отличие от моей ласковой мирской Софико или балованной, но весьма воспитанной Цирли, этот рыжий заср… питомец начинал побудку не с мурлыканья, а с шумного хлопанья крыльев и виляния хвостом. Надо ли говорить, что крылья и хвост проезжались по моей, как правило, зареванной и припухшей со сна морде лица?
Приходилось вставать, нащупывать тапки, открывать глаза и топать на раздачу кормежки. Пить столь полезный для котят глинтвейн Клаксончик отказывался. Малолетний котяра требовал мадеры, которую все больше размазывал по поилке и клетке, чем потреблял. Впрочем, в трех окрестных магазинах, торгующих алкоголем (приходилось их чередовать, как последней спивающейся забулдыжке), на меня уже слегка… посматривали. Больше с сочувствием, как я понимаю. Горем от меня фонило так, что мирские оглядывались. В особенности молодые люди, которых нелегкая заносила по ночам в круглосуточный. Кого-то из них я наскоро протрезвляла, кому-то улыбалась, снимая завтрашнюю боль, одному сотворила небольшую галлюцинацию — так, что он и впрямь завязал со злоупотреблением. Но все это без души, по инструкции. Невкусное было колдовство.
На самом деле, если бы не требующий еды, ласки и всевозможных развлечений Клаксон, я бы вообще не выходила из дома. Так бы и шаталась бессмысленно от дивана к кухонному чайнику, протаптывая маршрут — не короче, чем тот, что был мной отхожен в Инкубаторе. С балкона и из коридора мирские ссоры прослушивались легко, чужое беспокойство само лезло в уши. Я от него почти отмахивалась — смысл вмешиваться, если завтра вместо этой чужой беды ко мне прилипнет новая? Это безнадежно все — примерно как посуду мыть. Ты ее сделаешь теплой, гладенькой, блестящей и приятной на ощупь, а она вскоре опять украсится следами от чего-то жирного, вредного, вкусного и давно съеденного. Так что работала я почти брезгливо, как приговоренная к кухонной мойке домохозяйка.
Клаксон сидел на пороге настежь распахнутого балкона, смотрел, как я машу пустыми руками, сею невидимое над черным дном двора. Уют сеялся плохо, сворачивался обыденностью и усталостью. Развеянные ветром поздние заоконные огни дрожали, снег таял на лету, не желая заносить светлым весь наш двор и Софийкину могилку, из которой уже проклюнулись сухие прутики забей-травы. Крылатик отфыркивался от снега и встряхивал слабыми крыльями. В теплой и темной комнате свистел телефон, отзванивала печальным звоном Анна Герман, настроенная на Семена. В другой раз взяла бы трубку, не раздумывая, не веря услышанному. А сейчас не шевелилась. Только мирская бытовая радость ссыпалась с пальцев, оборачивалась не тем, да и разлеталась по двору.
— Лиля, да ты куришь, что ли? — прокаркало с соседнего балкона.
Клаксон выразительно повел мордой, мявкнул и шкрябнул меня по ноге. Переодеваться перед работой мне не хотелось — так и выскочила без чулок, в одном халате и накинутой поверх него курточке. Кажется, она была модной и дорогой — не знаю точно, но Жека мне никогда дряни не дарила.
— Доброй ночи. — Я притормозила, убрала руки в карманы, проследила за тем, как крупинка семейного уюта вспыхнула в темноте, маскируясь под сигаретную искру. Потом повернулась к соседке, выдыхая холодный воздух и отбрыкивая от себя кота. Телефон в комнате, кажется, снова вопил, но на этот раз Жекиным сигналом. Клаксончик вопил еще хлеще, но, к счастью, не каркал.
Тамару я за эти дни, может, и видела, но об этом толком не помнила. Наверняка здоровалась, но в разговоры не лезла. Она, после того как ей в глаза дунули, меня, естественно, вспомнила — двоюродная внучка покойной Лики, маленькой была — к бабушке ездила, а сейчас вот выросла — да и не узнать. Где я все эти годы была и чем занималась — я, непутевая, толком не придумала, вот и отмалчивалась, чтобы не врать. Так что приходилось с Тамарой осторожничать. А сейчас вот она сама первая в разговор полезла:
— Тоже не спится, Лиль?
— Угу. — Я попыталась ухватить кошака за шкирятник.
Я после того, как Жеку с Фоней проводила, отрубилась наглухо — с половинки коньячной рюмки такого не бывает. Первый раз со времен Доркиной смерти именно спала, а не тело отключала. Даже сон видела. Точнее — воспоминание про уличный скандал между мамой и дочкой-дошкольницей. Еле на работу встала, — Клаксончик разбудил.
— Ну вот и мне не спится. Все дела переделала, мои все спят, а я чего-то ну никак не могу… Как сквозняк какой внутри.
Мать честная, это ж старость у Тамары скулит, усталость от бытовых хлопот. Одной улыбкой снять можно, а я все откладывала на завтра.
— Это проходит. — Я увернулась от Клаксона, вцепившегося когтями в подол халата. — Вы сейчас ляжете, уснете, вон само к утру отпустит.
— Да что ты мне говоришь… — Тамара махнула через перила незажженной сигаретой. — Я уже и элениум пила, и этот… бальзам успокоительный на алтайских травах, не проходит — и все тут, ну вот хоть режь меня.
Обидел кто-то. Внутрисемейная обида, тихая и незаметная, как плесень под кухонной мойкой. А не уберешь вовремя — все в доме ею пропахнет и тухнуть начнет. Тут кроме улыбки еще слова хорошие нужны, а я, опять же, запустила Тамару.
— Тамара, вы не переживайте, пожалуйста. Это у всех бывает, просто вы устали очень, — как можно мягче профыркала я сквозь усиливающуюся метель. Клаксон цеплялся когтями за халат и пер по нему вверх — под теплую куртку.