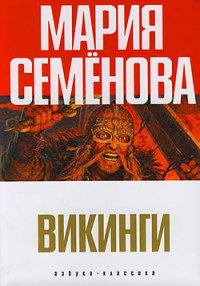Прощай, пасьянс - Копейко Вера Васильевна (версия книг .TXT) 📗
— Отец, а каков был царь в венце? — прервал его мечтания Федор.
— Батюшка мой говорил, что видал его в Преполовение…
— Когда это? — Павел вытаращил свои темные глаза.
— Это двадцать пятый день после Пасхи, чтоб ты знал. Праздник, был большой парад в Кремле. А государя он увидел в царском венце и золотом далматике. Хороша та накидка — рукава широкие, вот бы, говорил батюшка, оторочить ее нашим мехом. — Отец шумно вздохнул. — Кто знает, может, вам доведется быть на коронации нового монарха. Да не просто соглядатаями, как мой батюшка, а людьми другого разбора… Ну что, мужи мои!.. — Отец обнял за плечи младшего и старшего, которые, как всегда, стояли в отдалении друг от друга. — Ждет нас в Париже сюрприз.
— Подарок, батюшка? — быстро спросил Павел и поднял карие глаза на отца. Как всегда, отец отметил, что даже и глаза-то у Павла красивее, чем у Федора. Карие, цвета дорогого соболя.
— Вроде того. Разве не подарок судьбы — увидеть их императора, восходящего на престол?
— Ух ты! — не удержался и Федор.
А младший сын засмеялся:
— Ты говорил, батюшка, что он не больше меня ростом.
Отец снял руку с его плеча и погладил по голове. Волосы мягкие, но такие густые и непролазные, как тайга окрест Лальска.
— Мал да удал, Павлуша. Наполеон ростом не вышел, но хорошую подставку себе сделал. Теперь выше всех самых высоких мужей он, никто иной.
Они поехали в Париж.
…Собор Парижской Богоматери высился темной глыбой на острове Ситэ. Со всех сторон небольшой этот остров, с которого начинался город многие века назад, обтекала полноводная река Сена. Она была шире и глубже Лалы, берега ее не такие разные, как у нее — один выше, другой ниже. Сновали по ней разноцветные и разномастные лодки, барки, кричали горячие по своей натуре матросы, как кричат они по всему свету.
Но биение сердца, а потом едва ли не остановку его, или, точнее, обмирание, вызывал вид готических шпилей над мощными стенами собора.
То было холодное утро 2 декабря 1804 года. Всю ночь не переставая валил снег, что не так уж часто случается в Париже. Протерев глаза и увидев белую картину за окном, Финогенов-отец ощутил тревожную радость — как вовремя снег-то пошел. Эх, не прогадать бы…
— Вставайте, мужи мои, — поднял он своих сыновей. — Гляньте-ка, какой подарок нам послало небо.
Сыновья вскочили и прилипли к стрельчатому окну.
Из гостиницы открывался вид на небольшую площадь, по которой, кутая носы в высокие воротники, сновали люди.
— А метлы у них такие же, как у нас, — заметил Федор.
— Может, захочешь продавать им метлы? — ехидно засмеялся Павел. — А я буду поставлять им батюшкиных соболей.
— Могу и метлы. А соболей — своих, — отозвался Федор.
Степан, слушая перепалку сыновей, умом понимал, что радоваться надо словам Федора, но сердце таяло от одного голоса Павла.
Он и сам посмотрел в окно, увидел, как дворник поднимает столб снежной пыли каждым взмахом.
— Крепкая, должно быть, метелка, — похвалил Степан, всеми силами его душа противилась хвалить мысль Федора. А ведь было за что. Есть у парня хватка. Нет смущения в товаре. Это ли не купеческая жилка, которую надо лелеять?
Они быстро оделись, на плечах каждого была богатая шуба, подбитая бобрами. Экипаж, который заказал с вечера Степан, уже ожидал их возле входа.
В то же самое время в карете, запряженной восьмеркой серых лошадей, прибыла в собор Парижской Богоматери важная фигура предстоящей церемонии — Папа Пий VII. Трон для него поставили возле самого алтаря в соборе. Около двух часов глава римской церкви дрожал от холода, ожидая прибытия припозднившегося императора. А вместе с ним дрожали на площади возле храма люди, которые жаждали наблюдать невиданное событие.
Наполеон приехал в карете, вместе с ним — Жозефина и братья Людовик и Жозеф. Мантию Наполеона, которая весила 80 фунтов, поддерживали четверо придворных. Но он шел так, будто вовсе не замечал ее тяжести. Как не собирался он замечать тяжести своего поста.
Народ стекался во всех сторон. Люди напирали друг на друга, желая хоть одним глазком увидеть его.
Финогеновым досталось хорошее место, о чем заранее договорился отец, позолотив ручку кому надо. Они увидели Наполеона, который проехал мимо них, устремляясь к входу в собор с высокими окнами, за которыми горели тысячи свечей. Их свет заставлял оживать сюжеты стеклянных витражей.
Стало жарко в тесной толпе. Федор расстегнул доху, чувствуя, как его охватывает волнение. С ним всегда так было в толпе, он не привык к ней: он привык к просторам севера, к морским просторам, к бескрайнему небу и нескончаемой, до самых берегов Ледовитого океана, тайге. Он, кажется, всей кожей ощущал возбуждение, исходящее от толпы. Ее угрожающую силу, способную подмять под себя любого, кто слаб.
Странное дело, но он вдруг подумал, что похожее чувство он испытывает иногда рядом с Севастьяной. Ему не хочется лишний раз пошевелить рукой…
Павел, напротив, весь расцвел, расправился, как расправляется полевой цветок, который сорвали и долго держали без воды, но наконец-то погрузили в саксонскую вазу.
Федор перевел взгляд на отца. По его лицу трудно было что-то понять. Он из тех людей, которым хорошо и удобно везде. Но что было на его лице сейчас, причем бесспорно, так это гордость. Подбородок поднят, лоб расправлен. Была еще одна примета, о которой он никогда не говорил отцу и не скажет, хотя вряд ли тот сам знает о ней. В минуты наивысшего напряжения отец удивительным образом оттягивал уши назад, как делают довольные лайки.
В расстегнутые полы дохи вползал холодок. Федор чувствовал, как успокаивается и привыкает к тому, что он находится в гуще плотной толпы, к пестроте ее нарядов. Он устремил глаза в сторону, ближе к стене, желая проверить, не видно ли что-то через окна. Но его взгляд не достиг цели.
Он замер.
Он застрял.
Он потерялся в золоте, которое обнаружил среди всего, что было перед ним. Федор поморгал, полагая, что эта резь в глазах происходит от напряжения. Но не тут-то было. Золото ослепляло. Завораживало. Более того, оно двоилось. Федору пришла в голову странная мысль, что это выпал из окна витраж и теперь его слепит свет зажженных внутри собора свечей.
Он втянул в себя побольше воздуха и набрался храбрости признаться себе в том, что он видит на самом деле.
А видит он две золотоволосые девичьи головки. Им стало жарко, они высвободились из меховых модных капюшонов и открыли взорам свою красоту. Две золотые косы — по одной с каждой головки — струились поверх теплых, на меховом подбое, накидок. Девушки высились над толпой. Они как будто стояли на чем-то, на каком-то пьедестале.
Впрочем, внезапно подумал Федор, они и должны стоять на пьедестале. Кому же, как не им?
Он напрочь забыл, почему сам здесь, почему пришли сюда все эти люди, что происходит вокруг. О том, что делается за стенами собора и что вообще это прославленный собор Парижской Богоматери, который жаждут увидеть все, кто является в Париж.
Ему было все равно, как выглядит и как держится виновник действа — Наполеон. Маленький человечек на коротких ногах. Что ему до него? Ему любопытно сейчас только одно: чьи личики сияют в декабрьском свете дня в обрамлении золотых локонов, которые колышутся подле розовых щечек?
И почему личики одинаковые? — Он тупо уперся в эту мысль, а потом, сообразив наконец, что видит сестер-близнецов, выругал себя. Он ведь знает, что такое бывает — рождаются совершенно одинаковые дети. Но до сих пор ему не доводилось видеть их вблизи. Да еще таких красавиц.
Федор, сам того не замечая, переступил с ноги ногу, потом сделал шаг в их сторону. Потом другой… Он увидел, что девушки не одни, при них высокая худая женщина. Она гордо держала голову и не мигая смотрела на двери собора, вероятно, ожидая окончания церемонии и желая еще раз взглянуть на императора.
Федор сделал еще один шаг и споткнулся. Чей-то локоть резко ткнулся ему в бок, но густой мех бобра погасил удар. Он услышал злое шипение. Шипит по-французски, усмехнулся он.