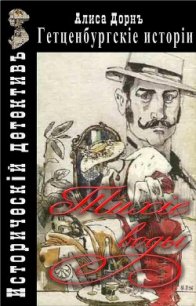Над бурей поднятый маяк (СИ) - Флетчер Бомонт (читать хорошую книгу txt) 📗
— В круг, в круг, в круг!
***
Больно было везде: болело лицо, боль от разбитого носа расползалась к вискам, высекая искры и слезы из глаз, заставляла запрокидывать голову в безуспешной попытке остановить кровь, а самое главное — болело там, где раньше, еще день, еще вечность назад было сердце. Уилл и не думал, что может быть так, что может болеть — так. Что Кит его все-таки убьет — не ножом, не даже ударом в лицо, хотя мог бы и лучше было бы — сразу в висок, но ласковыми, любовными, вопреки собственным словам прикосновениями. Уилл, сквозь нарастающую боль, сквозь пелену слез и кровавую юшку все еще чувствовал их, и не смел, боялся, запретил себе думать, что они — и есть правда. От этой боли, да еще от слов Кита, странных, страшных, больных слов о любви, Уиллу хотелось кричать, так, словно пресловутые рыболовные крючья Топклиффа впивались ему под ребра, выламывая их, добывая одно-единственное признание. Но разве он не прокричал его, не выплевал вместе с кровью — сотни, тысячи раз? В темноте и тишине спальни, и — вот на людях, со слезами и улыбкой, сонетами и прозой — разве он не говорил, не продолжал говорить это Киту даже сейчас, давя в себе рвущийся наружу крик?
Тень, быстрая, неожиданная, пронеслась мимо — дуновением воздуха. И сквозь боль, сквозь нарастающий набат в висках Уилл услышал крик Кемпа, и никтогда не слышал доселе, чтобы тот так кричал:
— Ди-и-и-ик!!! Дурак, что ты творишь?
И Уилл отняв руку от лица, увидел: Дик Бербедж, его безрассудный и храбрый друг, стоит с голыми руками посреди круга напротив тянущегося к ножу Кита. Что будет дальше предсказать было совсем не сложно. И, позабыв о собственной боли, Уилл рванулся в круг, оттесняя плечом Дика.
***
Кит потянул из-за пояса нож — он сам просился в ладонь, сам запорхал серебристой бабочкой в ставшей невероятно ловкой руке. Малейшая мысль была сейчас недоступна уму — лишь злость, лишь любовь, лишь ненависть, ставшая обратной монетой страсти.
И вдруг — время остановилось.
Вместо заломленных бровей Дика Бербеджа, готовящегося отойти в последний путь — не даром Меркурий — проводник душ, не проводить ли твою душеньку с почетом, милый дурачок, все будет быстро, глазом не успеешь моргнуть, как истечешь кровью, словно подрезанный поросенок! — перед Китом оказалось залитое хлещущим из распухшего носа кармином лицо Уилла.
— Даже сейчас — готовишься защищать убогих ценой своей жизни, а, Орфей? — мурлыкнул Кит, отбросив мешающую, взмокшую от испарины прядь со лба, и повел плечами — голыми плечами под расхристанным дублетом. Он пошел полукругом, мягко ступая с пятки на носок, и позволяя ножу вольно перелетать из руки в руку. Без усилия. Без страха.
С ненавистью. С любовью.
— А что, если я прирежу вас обоих? Досужая молва мигом сделает из вас Ахиллеса с Патроклом, павших в одном бою — вот только невесть за что. Или… или, может, лучше оставить твоего придурошного оруженосца в покое? Все равно его башку было бы совсем неинтересно размозжить — не более чем шмякнуть молотком по головке курочки. Мозгов будет поровну — и там, и там.
Он рванулся вперед — молниеносно, до того быстро, что сам не понял, как и почему одна его рука уже через мгновение держала нож у горла Уилла, а вторая — то ли с силой, то ли с грубой лаской сгребала в горсть его штаны с промежности.
— Так вот, мой обожаемый любитель доступных дамочек… — с безумным весельем, с расширенными, как у умалишенного, зрачками, продолжил ворковать Кит, усилив хватку, как только Уилл попытался трепыхнуться. — Может, попросту откромсать тебе яйца и хрен заодно, и посмотреть, как ты будешь истекать кровью и сожалением, что тебе больше нечего предложить поклонницам твоего несомненного таланта?..
***
Гоф замер, врос в пол, зажав рот обеими руками.
Что же это делается? Ему хотелось закричать — так, чтобы его услышали и в «Театре»: «Помогите! Сделайте же что-нибудь с этими безумцами! Сделайте так, чтобы они любили друг друга, смотрели друг на друга так, как раньше — а не так, как сейчас!»
Но никто бы не услышал его, не прислушался. Толпа жаждала крови — отовсюду неслись подначки и подбадривания: бей его, пусти ему кровь, в круг, в круг!
Слезы подкатывали к горлу терпким комом. Неужели — все? Неужто так кончаются все подобные истории, о которых говорят — это была настоящая, самая настоящая любовь? Сейчас мастер Марло просто пропорет мастера Шекспира кинжалом — с него станется. Столько историй ходило о том, как опасен этот человек! Гофу и смотреть на него, такого, забытого, незнакомого, было страшно. Заостренное, будто наскоро начерканное тушью лицо, непьяная, обманчивая точность смертоносных движений — это был не человек вовсе, но сам Дьявол во плоти.
Гоф уже был готов увидеть смерть любимого драматурга — прощайте, прощайте же, мастер Уилл, простите, что я говорил вам о своем безмерном уважении и дружбе так мало и так нечасто! — но тут произошел новый поворот.
Сам Нечистый не написал бы пьесы с таким сюжетом!
— Я бы сделал это лишь затем, что ненавижу свою любовь к тебе, — громко, раздельно, пугающе сказал Марло, приблизив свое белое, как полотно, лицо к разбитому лицу Шекспира, жестко, отчаянно, прижался губами к его губам. Окрашивая их чужой кровью. Творя что-то невообразимое. — И я убил бы тебя только в том случае, если бы ты сумел воскреснуть, подобно другому, всем нам известному фигляру…
***
Уилл оттеснял, закрывал Дика собой — и напарывался на ножевой, кинжальный взгляд Кита. От него было так легко погибнуть, так что ж? Можно подумать, Уилл не рвался к этому все прошлые сутки, с тех самых пор, как переступил порог дома на Хог-Лейн, выбросив ключ от дома Кита на колени юного Саутгемптона. А вечер, вчерашний вечер казался сейчас таким далеким, как будто он был жизнь назад. А между жизнью и Адом, тем, во что она превратилась ныне, во чреве сисястой Морской Девы, пролегала пустыня.
Ты говоришь, я никогда не спускался в Аид, Кит? Я прошел его своими ногами, от и до, от порога твоего дома до порога «Сирены», и часть пути, как и положено мертвецу, прошел босым и в одной сорочке.
Чертов Ад оказался похожим на ночной Шордич, представляешь?
Я говорил что не могу жить без тебя? Так вот, это правда. Я умер вчера, рухнул замертво на твоем пороге, а ты и не заметил. Я мертв, Кит.
Ну, же ударь меня ножом, пусть острая сталь наконец пройдет сквозь то, что осталось от живого тела — какая теперь разница? Я — мертв без тебя.
Мысли проносились со скоростью ветра в штормовой день, но Уилл, как и положено, мертвецу, оставался немым.
Он слушал Кита, следил за его хищными, отточенными, прекрасными даже сейчас, под винными парами и лютой, безумной злостью движениями, и не мог выдавить ни слова, кроме:
— Убей меня, а его — не трогай.
Это была правда, и в правде была — любовь. Ибо кто такой тебе Дик Бербедж, к чему его бессмысленная жертва, когда Орфею, чтобы спуститься в Аид, нужен Меркурий, а Сере, чтобы умереть, нужна Ртуть?
И вновь, как в пьесе, одной из тех, что они же сами и сочиняли для постановки на лондонских подмостках на потеху жадной до кровавых зрелищ толпы, Кит сделал свой выпад — и свой выбор. Он держал крепко, и все повторялось почти дословно. Только прошлой ночью грабителям нужен был его дублет, а сейчас их покровитель, Меркурий, пришел по его душу.
— Зачем, Кит, — хотел спросить Уилл, дернувшись и тут же порезавшись о сталь. Тонкая струйка потекла вдоль обнаженного горла — и это тоже было с ними, все повторялось зеркально, и ничего нового быть не могло. — Зачем ты хочешь ограбить меня, если моя душа и так твоя? И будет твоей — всегда, с того самого первого мига, как ты взял меня за порезанной ладонью за такую же искалеченную ладонь. Или — раньше?
Он не спросил, конечно, только смотрел и смотрел, проваливаясь в темнеющие зрачки Кита, чувствуя, что мир вокруг него сужается до этих зрачков, а уши будто забиты паклей — так, что даже слова Кита, долетали с трудом. Но одно Уилл услышал совершенно четко: