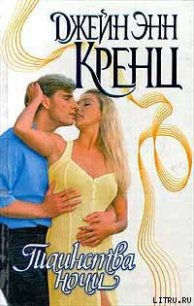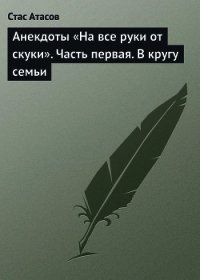Жена султана - Джонсон Джейн (онлайн книга без TXT) 📗
— Рад это слышать. Я бы очень горевал, случись с тобой что плохое, — он опускает глаза. — По-моему, ты порезался.
Сердце мое содрогается.
— Это просто грязь.
Я дерзко смотрю ему в глаза и вижу, как улыбка тает на его губах, и в лице не остается ничего человеческого, как у ящера. Потом он роняет руку, небрежно, словно случайно, — но так, чтобы задеть мой пах. И смотрит, как я стараюсь и не могу сдержать отвращения.
— Как скажешь, Нус-Нус, как скажешь.
Его взгляд впивается в меня еще на миг, потом он отворачивается и расталкивает сопровождающих, чтобы приблизиться к султану и внятно напомнить всем нам, мне в том числе, что он считает себя — себя, и только — равным нашему повелителю.
Взгляд светлых глаз бен Хаду скользит по нему, и я ощущаю, как от каида исходит неприязнь, неприязнь с оттенком презрения, хотя лицо у него каменное. Потом он отворачивается, и его серые глаза — зоркие, всевидящие — останавливаются на мне. И мне кажется, что в эти мгновения бен Хаду прозревает все, что случилось между моим врагом и мной.
Строительство императорского дворца в Мекнесе — деяние немыслимой дерзновенности, на грани безумия. Мы слышали от нескольких французских пленников, из тех, что повыше саном, что их король затеял такую же стройку, хотя и поскромнее, но сейчас там всего лишь охотничий дом посреди комариного болота. Впервые услышав об этом, Исмаил снисходительно рассмеялся.
— Эти европейцы! Все, на что они способны, это причуды и сумасбродства, из которых ничего не выйдет. Когда же я осуществлю свои планы, у меня будет обширный город, величайшее подношение милости Аллаха из всех, что когда-либо совершались. Я беру пустынные земли и преображаю их во славу Божию. Его святое слово будет начертано на земле, на стенах, на всем вокруг, его вечный, бесконечный замысел воплощен в телесном мире!
Пустынные земли сегодня упорно сопротивляются: у нас возникают все новые и новые трудности, которые я должен тщательно заносить в книгу записей по мере нашего продвижения. В рассеянии из меня плохой писец, да и дождь делает все возможное, чтобы помешать, размазывая чернила и смывая по временам целые слова. Как только меня отпускают, я мчусь к себе. Если я сейчас же не запишу точные указания, которые продиктовал Исмаил, и немедленно не доставлю их старшему мастеру, гнев султана будет стремителен и неизбежен.
Сидя со скрещенными ногами на диване, я раскладываю подставку для письма, макаю тростниковое перо в чернила и аккуратно вывожу: «Во-первых, Баб аль-Раис нужно укрепить железными заклепками и поперечными полосами. Найти нового мастера, чтобы изукрасил все солнцами и полумесяцами, поскольку, раз уж французский король называет себя «Король-Солнце», Исмаил властвует и над днем, и над ночью. Узор должен быть готов к открытию.
Во-вторых, снести будку охраны и возвести заново на восточной стороне.
В-третьих, внешнюю стену, ту, что ближе к меллахе, передвинуть на пятьдесят шагов; для чего потребуется снести дома на этом участке, чтобы соблюсти должное расстояние между нашими владениями и жителями города. Жителей уведомить посредством глашатая и приказать немедленно начать работы. Тем временем найти переселенцам жилье — но скарб за пределы площадки пусть вывозят сами.
В-четвертых, переделать резной фриз в Куббет аль-Хиятин. На этот раз отыщите мастера, который знает грамоте». (К несчастью для прежнего резчика, улыбающийся визирь указал, что надпись, которая должна читаться как «Величие Бога», надпись в изысканном куфическом стиле, повторяющаяся снова и снова, была изначально сделана с ошибкой и теперь гласит «Оковы Бога» — и ошибка эта воспроизведена десятки раз.)
Я должен был запомнить и другие распоряжения, но записать надо только эти. Волку придется подождать…
Я спешу к старшему мастеру, вручаю ему записи, удостоверившись, что он их разбирает, а после бегу за полторы мили на другой конец дворца, в гарем.
Гарем — во всех отношениях запретное место, само его название происходит от слова, означающего запрет, харам. Войти в гарем — значит пересечь невидимую черту, шагнуть из открытого в укромное, от мирского к священному; словно поднимаешь завесу, проскальзывая в сокровенную область. В мире внешнем граница эта пролегает в сердцах и умах людей, но во дворце Исмаила переход куда нагляднее: у четырех железных ворот стоят стражники. Всем им мне приходится объяснять, что я делаю здесь в неурочное время, хотя я и принадлежу к тем немногим, кому разрешено перемещаться между двумя мирами — мужским и женским, внешним и тайным.
И вот на меня смотрит вниз старший евнух гарема.
— Ну?
Керим — один из доверенных слуг Исмаила; его растили в безоговорочной верности султану. Его брат Биляль охраняет двери в личные покои Исмаила, мускулы у паренька словно из кедра и мозги под стать. Большинству стражей лет по девятнадцать-двадцать, но они огромны. Я немалого роста, а они на полголовы выше и вдвое шире.
— Ты знаешь, кто я, Керим. Ты каждый день меня видишь.
— Но обычно не в этот день и не в этот час.
Его высокий тонкий голос всякий раз меня изумляет, настолько он не вяжется с внешностью. Говорят, так бывает с теми, кого урезали в детстве.
— У тебя есть письмо с позволением?
— Керим, ты же знаешь: будь у меня письмо, я бы сам его и написал, я же писец султана.
Это рассуждение, похоже, ставит его в тупик: он по-прежнему на меня таращится.
— Я исполнял поручение императрицы, — добавляю я.
Он смотрит на мои пустые руки, потом снова переводит взгляд на меня. Я не отвожу глаз, и он наконец кивает и кричит тощему темнокожему мальчишке лет шести-семи:
— Разыщи Амину, скажи, Нус-Нус хочет видеть ее госпожу.
Мальчик несется прочь.
— Амина! Амина! — эхом разносится по залам, словно кричит попавшая в силки птица.
Я хочу войти, но могучая рука Керима ложится мне на плечо.
— Не стоит заставать императрицу врасплох.
В конце концов, мальчик возвращается, ведя за собой обильную телом женщину, чьи красные туфли шумно шлепают по мрамору. С ее лица капает пот, а платок на голове явно повязан в спешке. Она вне себя.
— Где то, за чем тебя посылала Зидана? — спрашивает она.
— Увы, у меня этого нет, и поэтому мне нужно переговорить с нею лично.
Амина кривит губы:
— Она занята. Послала меня принести то, что заказывала тебе с базара.
Она смотрит на меня с подозрением, словно я спрятал что-то под одеждой и отказываюсь отдавать, потом, вздохнув, делает знак следовать за ней.
Я иду позади, с завороженным отвращением глядя, как прыгают и раскачиваются ее огромные ягодицы. Человека она может раздавить, как слон собаку. Здесь очень ценят полных женщин, это роскошь, только бедняк возьмет в жены тощую. Женщины нарочно набирают вес, питаясь зуметой, густой пастой из орехов с маслом и тертых семян тифиды, горькой дыни. Клянусь, от нее толстеют прямо на глазах.
Кажется, что до покоев императрицы мы идем целую вечность, но когда наконец добираемся, мне на ужасное мгновение кажется, что я попал в зачарованное место, в яму, куда Зидана призвала демонов — или это своих женщин она превратила в чудовищ? — ибо лица, обращенные ко мне в мерцающем свете ламп, страшны, искажены и текучи. Потом я вспоминаю, что нынче пятый день недели, который женщины отводят для загадочных обрядов красоты, и что передо мною не джинны, но придворные дамы, облепленные глиной и фруктовой мякотью, а волосы их собраны в липкие кольца и обмазаны хной и маслом.
В воздухе веют ароматы миндаля и мирта; в стенных нишах курятся благовония. Вся комната полна следов женской алхимии: низкие медные столики завалены тарелками с молоком, яйцами и медом; склянками с яркими маслами, гранатовой кожурой и ореховой скорлупой; мисками цветной глины и охапками листьев лавсонии.
Даже под маской из красной глины с потеками хны Зидану не узнать невозможно: ее гагатовая кожа блестит между многими локтями красной ткани, в которую императрица закутана, а на руках и ногах десятки сверкающих золотых браслетов. Вокруг ее бычьей шеи несколько раз обмотана нитка жемчуга, огромные золотые серьги оттягивают мочки ушей к плечам.