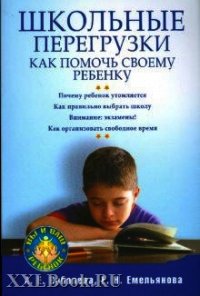Полынь – сухие слёзы - Туманова Анастасия (читать книги полные txt) 📗
– Думала, может, собаки залают?
– А отчего ж они, всамделе, не лаяли? Будто свой кто вошёл… – На миг Прокоп запнулся… и тут же яростно заорал на весь двор: – Эй, Гришка, Сёмка, а ну за мной! Покуда след не занесло, живо!!!
Следы вели через поле, к лесу. Метель заметала их на глазах спешащих по едва заметной цепочке мужчин. До леса было далеко, и, прежде чем мужики пересекли поле, следы были занесены совсем. До рассвета лазили по сугробам, искали, кричали, светили факелами под ёлками на опушке. Наутро к поискам присоединилась вся деревня. Но лишь к полудню у замёрзшего болота, среди топорщившихся из-под снега жёлтых палок камышей нашли скорчившееся тело Насти с пятнами крови вокруг.
Когда она успела родить, никто не знал: ни одна из дворовых, спящих рядом с Настей в девичьей на полу, ничего не слышала и не видела. Впрочем, измученные за день работой девушки спали так крепко, что их не разбудили бы и три родившихся младенца. Никто не мог сказать, почему Настя отправилась ночью, в холод и метель, прочь из тёплой усадьбы, на деревню, для чего оставила ребёнка у дяди. Малыша удалось отогреть, он охотно взял грудь и утром сосал молоко жадно и торопливо.
– Вот ведь тоже, положение… – яростно скрёб шею Прокоп, глядя на темноволосый затылочек, уютно пристроившийся на локте Нюшки. – Дура она, Настька, дурой родилась и дурой подохла…
– Замуж, видать, не хотела, – подала голос Матрёна.
– Вестимо, чего ей там хотеть! – сквозь зубы процедил Прокоп. – Надобна была она, что ль, Никишке-бобылю? Да ещё с выблядком-то? Бил бы её кажин день, покуда не уходил совсем… Настька ж понимала, чуяла… вот сама себя и заморозила, окаянная. Хорошо хоть, ума достало младенца подкинуть… Тьфу! Ты-то, дура, чего ревёшь?! Змеищи вы все, бабы, все до единой, да и пустоголовые к тому ж! Прости меня, господи…
Прокоп сердито перекрестился на образ, замолчал. В наступившей тишине отчётливо слышалось чмоканье младенца и всхлипы Нюшки. Матрёна, хмурясь, смотрела через голову невестки в замёрзшее окно.
– С младенцем-то что теперь поделать, Матвеич? – со вздохом спросила она.
– А что тут поделаешь… – Прокоп нахмурился ещё больше. – Нынче барину пойду доложусь. Как распорядится, так и будет. В дворовые, верно, запишут его.
– Матвеич, а ты б попросил… – искательно начала Матрёна, приближаясь и заглядывая мужу в глаза. – Попросил бы барина-то, покланялся бы… Настька ведь нам не чужая была, от нас её в девичью-то и взяли! Получается, что, окромя нас, и родни у ангела божьего нету, а мы, слава богу, не нищие… Барину-то, поди, всё едино, где младенчик расти будет? А у нас тут и Нюшка кормит, и далее-то вскормить смогём, не переломимся…
– Умны вы все, бабы, больно… – проворчал Прокоп. – А ну как барин захочет при себе его оставить? Сама, чай, знаешь, чьей выделки младенец-то…
– Чего я – всё село знает… – вздохнула Матрёна. – Только для ча он барину-то? Коль нужен был бы – верно, не наладил бы Настьку замуж? При себе бы и оставил вместе с младенцем… Так он, наоборот, скорее с глаз долой… И то диво, отчего так долго тянули. Обыкновенно-то враз спроваживают, как только заметно станет…
– Вот то-то и оно! – Прокоп покряхтел, снова зачем-то покосился на чёрный образ в углу и решительно поднялся. – Что ж, пойду до барина, авось допустит. Как положит – так и будет.
Дело решилось быстро: барину явно хотелось поскорее избавиться от этих неудобных хлопот и позабыть о происшествии. Было решено оставить новорождённого младенца в семье Силиных.
Никите никто ничего не рассказывал, но по суете и бестолковой беготне дворни, по испуганным и заплаканным лицам девок он понял, что ночью стряслось неладное. На его вопросы: «Где Настя?» – никто ему не отвечал, все бормотали что-то невразумительное, крестились и старались поскорее убежать. Целый день он не мог ни у кого даже допроситься поесть, пока, наконец, кухарка Феоктиста не спохватилась, что барчук с утра не евши, и не бухнула перед ним в людской миску щей.
– Феоктиста, где Настя? – тихо спросил Никита, прикусывая горбушку. И испуганно выронил хлеб, увидев, как круглое рябое лицо кухарки жалко морщится и по нему бегут одна за другой слезинки.
– Она умерла… да? – одними губами спросил он. Феоктиста трубно высморкалась в грязное полотенце, перекрестилась. Шёпотом сказала:
– Вы уж помолитесь, Никита Владимирыч, за Настькину душу грешную. Сгубила она свою душеньку… Навек, горемычная, сгубила… Вы помолитесь, ваша молитовка детская, святая, впереди всех до бога дойдёт… Авось поможет Настьке-то.
Никита молчал. Молчал и никак не мог проглотить щи, вставшие в горле. Наконец, ему это удалось, он выбрался из-за стола и опрометью бросился прочь из людской. Никита не знал, куда собирается бежать, и сам не понял, как очутился на пустой, холодной половине дома. И только там, сжавшись в комок на пыльном полу, он заплакал. И плакал до тех пор, пока не почувствовал, что насмерть замёрз и даже пальцы не гнутся от холода. Вернувшись в людскую (никто не заметил его отсутствия), он умылся у рукомойника и полез на полати. Там и заснул в конце концов, опустошённый и измученный.
Настю похоронили на деревенском кладбище. В имении о ней больше никто не говорил: разве что дворовые девки, и те шёпотом. Никита первое время страшно скучал, плакал ночами в подушку, раза три даже сбегал тайком на Настину могилу, но постепенно всё начало забываться, и воспоминание о весёлой рыжей девушке мало-помалу стиралось из детской памяти, причиняя уже не мучительную боль, а тихую, чуть царапающую сердце печаль.
Однажды, поздней осенью (Никите уже было десять лет) он в одиночестве играл на деревенском пруду. Срезав себе ножом толстый прут из лозы, он сосредоточенно стругал его, время от времени отогревая дыханием покрасневшие пальцы, и так увлёкся, что не услышал ни шелеста подмёрзшей травы на берегу, ни быстрых шагов. От громкого чмока опущенного в воду ведра мальчик очнулся, поднял глаза и вздрогнул. В двух шагах от него стояла цыганка.
Она была совсем молода – лет пятнадцати. Чёрные, отливающие синевой, грязные волосы выбивались из небрежно заплетённых кос, падали на худые плечи, обтянутые линялой красной кофтой. Между выступающими, сизыми от холода ключицами блестел образок. Большие тёмно-карие глаза девушки смотрели на испуганного мальчика с интересом и чуть заметной насмешкой.
– Спужался, барин? – улыбнувшись, спросила она. – Не бойся, я за водой только. Сейчас возьму и уйду.
Никита оторопело молчал. Эта цыганка не поклонилась ему, как сделала бы любая крестьянская девка при встрече, в её весёлом голосе не было подобострастия, и он не знал, как отвечать ей. Девчонка тем временем, пыхтя, вытянула из пруда наполненное ведро, бухнула его рядом с собой, щедро окатив водой грязные ноги, и Никита поразился: как же ей не холодно?.. Словно угадав его мысли, цыганка небрежно потёрла одну ногу о другую, ещё больше размазав грязь, снова пристально поглядела на мальчика в упор, подумала о чём-то… и вдруг расхохоталась, всплеснув руками, – заразительно и дробно:
– Да что ж ты, барин, столбом дорожным стоишь? Аль примёрз?! А ну, тырлыч-марлыч-тьфу – отомри!!!
С этими словами она черпнула из своего ведра воды и брызнула на Никиту. Он вздрогнул, хотел было побежать, не смог – и, вконец перепугавшись, зажмурился и закрыл лицо руками.
От короткого прикосновения он вздрогнул всем телом. Осторожно открыл глаза. Цыганка стояла совсем рядом, обнимала его за плечи и обеспокоенно заглядывала в лицо.
– Да что ж ты, вот ведь глупый какой! С пустяка испугался! Ну, давай оботру морду-то! – Она деловито вытерла его грязным рукавом кофты, подула на волосы, снова улыбнулась, открыв ряд прекрасных белых зубов, – и Никита невольно улыбнулся ей в ответ.
– Ну? Чего дрожишь? Небось думаешь – вот сейчас цыганка в торбу засунет, да?
Он кивнул, всеми силами желая, чтобы она снова рассмеялась, – и цыганочка не заставила себя долго ждать: от звонкого хохота с чёрной, облепленной палым листом глади пруда нехотя снялся и полетел к болоту косяк уток.