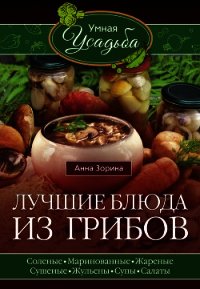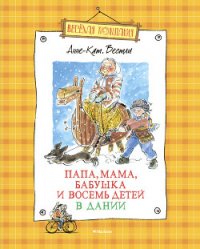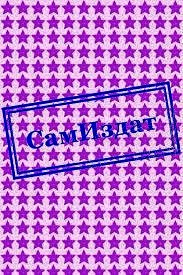Сказка наизнанку (СИ) - Соло Анна (читаем книги txt) 📗
Потом вдруг слышу, будто меня из-под воды кто зовёт. Стала вслушиваться, а это — Свит. Его голос. Ругается, как всегда, кричит:
— Ёлка, дура! Помереть решила? А ну открывай глаза! Смотри на меня!
Я послушалась. Смотрю — а там, по ту сторону тёмной воды, действительно, Свит. Сам бледный, глаза как плошки, хлопает меня по щекам и зовёт:
— Ёлка! Ёлка! Смотри на меня!
И лежу я, вроде, уже вовсе не на полу, а на постели, укутанная во все одеяла. И воды никакой нет. Только всё равно холодно, словно в реке. Свит увидал, что я очнулась, прошептал: "Слава Маэлю, жива," а потом как крикнет:
— Корвин, гони за повитухой! Кривой тупик, дом с птичками на воротах! Живо! Мухой, стрелой, кабанчиком! Одна нога тут — другая там!
Потом он взял кружку с какой-то горячей настойкой, горько пахнущей травами, приподнял меня и начал поить. Я помаленечку отогрелась, и только тут меня словно ударило: дитя-то где? Враз поняла: если с ним что случилось, то я вот прямо сейчас же, на месте умру. А сынок, видно, тоже по мне заскучал и заплакал. Смотрю — лежит, бедный мой, рядом со мной, завёрнут в Свитову рубаху, личико красненькое, сморщенное, глазёнки голубые… Я потянулась было к нему, но Свит догадался, сам мне его в руки положил. Я малыша к груди прижала, смотрю и не верю глазам: он головой мотает, водит ротиком туда-сюда, а грудь не берёт. Что за незадача такая? Потом маленький мой нахмурился, бровки сморщил да снова как заревёт! Я смотрю и думаю: "Маэлевы оченьки, это ж вылитый Свит, он точно так бровями делает, прежде чем начать на меня орать. И меньшой туда же, не успел родиться — уже ругается." А самой и смешно, и жалко его, бедненького, до слёз.
Тут на лестнице послышались шаги, дверь распахнулась, и на пороге нашей каморки показался Корвин, а с ним женщина, пожилая, но как будто не старая. Лицо у ней было доброе, светлое, стан прямой, на голове по-вдовьи повязан старушечий плат. Она шагнула внутрь, а Корвину ласково сказала:
— Ты ступай, касатик, дальше я сама.
И закрыла дверь у него перед носом.
И сразу в нашу каморку будто Очий луч заглянул. Лёгким шагом повитуха подошла ко мне, сынишку моими же руками верно к груди приложила. Стало так тихо, только слышно, как малыш чуть сопит.
А она улыбнулась и ласково сказала:
— Ну, здравствуй, голубка. Тебя как звать-величать?
— Ёлкой, — едва ответила я.
— Ёлочка, значит? А я повитуха здешняя, Василина. Но ты зови бабой Васей, и дело с концом.
Потом баба Вася уверенно и просто, будто так и надо, взяла за руку Свита, оттянула его от постели, чуть отряхнула, убрала волосы с глаз.
— Ты, соколик, так сильно не волнуйся. Даст Маэль — всё будет хорошо, — спокойно и серьёзно сказала она ему, — Лучше поди распорядись, чтоб нам сюда водички горячей, чистой ветоши побольше, корыто какое… А сам иди, вниз ступай. Нам с твоей Ёлочкой кой о чём своём пошушукаться надо. Хотя постой. Постелька-то детская где? Поглядеть бы, всё ль вышло.
Свит удивлённо захлопал глазами. Чуть обождав, баба Вася терпеливо пояснила:
— Ну, когда дитя родилось, следом ещё что вышло? Или нет?
— Ах, это, — сообразил, наконец, Свит, — Вон там, в ведре.
Баба Вася тут же развернула его за плечи к двери и потолкала на выход:
— Иди, иди. Воду давай неси.
И Свит пошёл. Вернулся он что-то уж больно скоро, сразу видно, воду силой грел, а не на огне. Сунулся было снова присесть рядом со мной, но баба Вася и тут его перехватила и мигом выставила вон:
— Давай, давай, голубчик, ступай вниз. Если вдруг что потребуется — я позову. Займись делом: в сухое переоденься, горяченького поешь. А то вон уже весь дрожишь. И рюмашечку пропусти для согреву. Тебе теперь захворать никак нельзя, жену с сыном кормить надо.
И Свит снова безропотно подчинился. Чудеса да и только!
Баба Вася водворилась у нас на целых три дня. И все эти дни она нянчилась и со мной, и с Лучиком, точно мы оба только что народились на свет. Учила меня, как малыша помыть, как удобно к груди приложить, как на руки взять, чтоб не потревожить… И так-то у неё всё ловко и спокойно получалось, что мне думалось: вот поправлюсь чуток — и тоже смогу.
Саму меня и на третий день ещё сквозняком шатало. И со мной баба Вася тоже возилась, как с малым дитём: поила травами, мыла, меняла измаранные пелёнки да рубашки, кормила с ложки, водила под руки к ведру…
Мне всё казалось, что Лучик слишком маленький и слабый, а баба Вася всегда его хвалила, говорила, что и крепок, и здоров, и ест хорошо. А раз, его умывая, сказала:
— Экой он у тебя глазастенький! Весь в папашу, точёненький: и носик, и бровки… Такой же красавчик вырастет девкам на печаль.
Я тогда сильно удивилась. Лучик-то ладно, но кто б назвал красавчиком белозорого Свита? А потом подумала и решила, что это баба Вася для того моего мужа хвалит, чтобы мне приятное сделать.
Свита она пускала в каморку на нас с Лучиком посмотреть, но всякий раз не надолго и в добрый час. А мне объясняла так:
— Мужчины народ нервный, им всю эту нашу изнанку видеть ни к чему. Лиха им и на службе хватает, а дома должно быть хорошо и спокойно. Твой-то ещё молодец: не растерялся, увидав, как ты на пороге без памяти в луже крови лежишь. И после не охладел, видно, что любит. Другой кто после эдакого зрелища мог бы нос начать воротить.
На те две ночи, что баба Вася спала подле меня, Свит перебрался к Корвину. И всё бы ничего, вот только в первую ночь Свит учинил нам нежданную побудку. Я уже давно приметила, что Свит часто вскакивает до рассвета воды попить, и начала ставить ему кружку с водой у постели, чтоб не шастал раздетый по сквозняку. Он на Корвинову половину перебрался, а кружку-то свою у нас позабыл. Как пропели третьи петухи, слышу: дверь каморки отворилась, половицы заскрипели. А у меня как раз у постели ночное ведро стояло, чтоб далеко не ходить. И, как на грех, в тот раз не пустое. Ну, Свит спросонья на него и наскочил. Вот уж шуму было да ругани, а потом ещё и уборки…
В тот же утро я глядела из окна, как Свит уезжает на службу. Он, как всегда, когда в дурном настроении, не стал открывать ворота, а потащил Кренделька через калитку в поводу. Только калитка сделана на человечью мерку, и потому узка и низка, а Кренделёк куда как толст. Он сперва в створе Свита больно прижал, провёз рёбрами о косяк, а потом ещё и зацепился за щеколду путлищем. Но конь-то старый и умный, как почуял, что ремень натянулся и не пускает, встал в проходе, и ни туда, ни сюда. Свит его тянет, а конь ни с места. Свит тогда сгоряча отвесил ему пинка. Кренделёк прянул назад в калитку, треснулся затылком о низкую притолоку, и с испугу как прыгнет вперёд! Путлище оборвал, а Свита так толкнул грудью, что тот сразу с ног долой да в уличную канаву. Мальчишки соседские со смеху чуть с забора не попадали. Свит зыркнул на них так, что они своими смешками вмиг подавились, а потом как был, мокрый и грязный с головы до ног, вскочил в седло без стремени и укатил.
Баба Вася, посмеиваясь, покачала тогда головой и сказала:
— Ишь, норовистый какой…
Я в ответ:
— Что ты, баба Вася, Кренделёк — конь смирнёшенький, добронравный.
А она мне:
— Да я не про коня. Муженёк-то твой всегда убегает на службу вот так, не емши?
— Он обычно говорит, что ему с утра ничего не хочется…
— А ты, душа моя, всё равно на стол ставь, пусть хоть пару ложек каши положит в рот. И с собой ему заворачивай пожевать. Не будет бегать голодным — глядишь, и ершиться станет поменьше. Они ж там, в крепостице этой, за весь день разве что ломоть серого хлебца с солониной съедят да дрянным пивом запьют. С такого сыт не будешь, вред один.
— Откуда ты, баба Вася, знаешь, что мой служит в крепостице? — удивилась я.
А она улыбнулась и ответила:
— Так ведь мой тоже был княжий стрелок. И сынок старшенький князю служил. Я эту куртку и пальчики, загрубевшие от тетивы, ни с чем не перепутаю.
— Что ж сын теперь? Уже не служит?