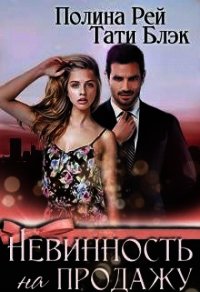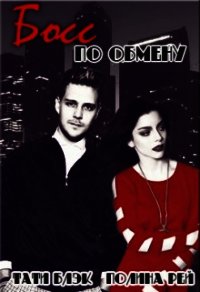Агенство БАМС (СИ) - Блэк Тати (чтение книг .TXT) 📗
Оболенская была совершенно уверена, что Анис Виссарионович считает подобные обсуждения не предназначенными для женских ушей, а потому терялась в догадках относительно того, для чего дядюшке потребовалось здесь ее присутствие. Окончательную сумятицу в душу Настасьи Павловны внесло прибытие Петра Ивановича и невозможно было отрицать того, как предательски дрогнуло вновь сердце, когда господин лейб-квор вошел в комнату. И как заныло оно отчего-то после его вопроса о том, что, дескать, неужто она ему не скажет ни словечка. Оказалось, что воплотить в жизнь намерение поставить все чувства под запрет было гораздо сложнее, чем принять решение сделать это. Оболенская чувствовала на себе ищущий взгляд Шульца и пребывала в полном смятении всех чувств — ей то хотелось уйти прочь немедля и, быстро собравшись, уехать в столицу, то посмотреть все же на господина лейб-квора и, быть может, найти в его глазах что-то такое, что могло бы все изменить. Но Настасья Павловна мужественно держалась, глядя на расстеленную на столе карту, хотя не видела пред собою ровным счетом ничего, находясь в мучительном напряжении от близости Шульца. И вышла она из этого состояния только тогда, когда очень довольный чем-то Анис Виссарионович внезапно сообщил, что отправляет ее в поездку на дирижабле вместе с Петром Ивановичем, да еще и в одной каюте, как супружеская пара! Первоначальное удивление от того, что дядюшка до такого додумался, посчитав ее то ли слишком глупой для подобного задания, то ли, наоборот, слишком умной, сменилось ужасом. Близость Шульца на протяжении не одного дня полета и несколько ночей с ним наедине в одной каюте в придачу ничем хорошим, определенно, обернуться не могли. А вот разбитым сердцем — весьма вероятно.
Настасья Павловна молчала, ощущая на себе взгляды всех присутствующих и отчаянно пытаясь совладать с постигшей ее оторопью, чтобы прийти к какому-то решению. Данное дядюшкой задание позволило бы ей все же исполнить то поручение, с каким она явилась в Шулербург и сохранить тем самым свое реноме, но ведь ею уже было решено от этого поручения отказаться. И теперь оставалось только сделать последний, самый важный шаг, и просто объявить о том, что она не может взять на себя предложенную задачу — хотя о ее согласии вовсе и не спрашивали — в виду необходимости вернуться в столицу. Но язык Оболенской вдруг словно прилип к небу, не давая ей возможности произнесть хоть слово.
Наконец, сделав над собой усилие и гоня прочь все искушения, разом одолевшие душу, Настасья Павловна глубоко вдохнула и сказала:
— Благодарю вас за оказанное мне доверие, дядюшка, но вынуждена отказаться от данного поручения по причине полного его неприличия и того, что сегодня я намереваюсь отбыть домой. Уверена, что вам или Петру Ивановичу не составит труда переодеться в женщину, ведь наверняка ради дела вам уже не раз приходилось идти и не на такое, — проговорив все это, Оболенская улыбнулась с неподдельным сожалением, впрочем, не имевшем никакого отношения к тому, что она отказывалась помочь Анису Виссарионовичу.
Слушая ответ Оболенской, Шульц безотчетно сжимал и разжимал руки, будто бы это простое действо могло помочь ему в том, чтобы совладать с сонмом мыслей, что кружились в его голове, и вычленить из них хоть одну, наиболее разумную, не представлялось возможным.
А всему виной — представившаяся ему как наяву картина ближайших дней и ночей, что они проведут с Настасьей Павловной наедине в двухместной каюте дирижабля. Несмотря на то, что их отправляли в путешествие с особенной целью государственной важности, Шульц решил, что непременно найдет время, чтобы признаться Оболенской в своих чувствах. А после того, как преступник будет изобличен, они заживут душа в душу, разумеется, обвенчавшись, и не будет никого счастливее на свете, чем Петр Иванович.
Возможно, его даже приставят к какой-нибудь награде, а после он уже порешит сам с собою — оставаться ли ему и далее на службе, или же найти себе более спокойное занятие, чтобы проводить с супругою как можно больше свободного времени. Они посадят яблоневый сад, непременно с ранетом и антоновкой. Будут варить вместе варенье на зиму, заведут болонку, как то было модно у дам Шулербурга, и с детьми тянуть не будут.
Эти мечтанья проплывали перед внутренним взором лейб-квора, вызывая у него неподдельное желание улыбаться. И проплывали бы дальше, кабы Настасья Павловна вдруг не заговорила.
— Позвольте! Ни в каких женщин я не переодевался! — воскликнул он громко, нарушая все возможные приличия, но не в силах молчать на столь возмутительное предположение Оболенской. — Даже ради дела. Никогда. И что же вы, Настасья Павловна, так сразу отказались? Неужто вам настолько неприятна будет моя компания? О неприличии же речи не ведется. Вы будете моею женою, я — вашим супругом.
Эти слова он произнес с трепетом, который охватил его душу, и который, как смел надеяться Шульц, не был заметен никому кругом, особливо Оболенской.
— Никто не покусится на вашу честь, даю вам слово, — зачем-то пообещал он. — И позвольте узнать у вас, отчего вы так спешно отбываете в Петербург?
Он перевел взгляд на Аниса Виссарионовича, и по его виду понял, что и для Фучика сей пердимонокль его племянницы был совершенно неожиданен. Вновь вернувшись глазами к Настасье Павловне, он добавил тихо:
— Неужто вам так претит вся моя фигура и мое присутствие, ежели вы желаете избегать их впредь не только на Александре Благословенном, но даже в Шулербурге?
Послушать было Петра Ивановича, так все было просто и очевидно. Для него, быть может, ситуация и являлась таковой действительно, но вот для Настасьи Павловны представлялась сущей пыткой перспектива провести с Петром Ивановичем в одной каюте многие ночи. И если его сей факт, похоже, не волновал нисколько, что в очередной раз покоробило Оболенскую, то для нее было несомненно то, что при такой близости Шульца о нормальном сне на все время путешествия можно будет совершенно забыть. Не говоря уж о душевном покое.
И особенно досадно было то, что ничего из сказанного ею вчера Петр Иванович, похоже, не понял, если спрашивал теперь, чем же ей так неприятна его персона. А впрочем, это не так уж и плохо. Пусть и далее думает, что ей претит его общество, все лучше, чем если господин лейб-квор догадается, какую бурю рождает в душе Настасьи Павловны каждое его слово.
— Проблема в том, господин Шульц, — начала объяснять Оболенская то, что, похоже, было очевидно только ей одной, если учесть с каким недоумением смотрели на нее все присутствующие мужчины, — что взаправду мы с вами никакими супругами не являемся. И пусть я вдова и далеко не юная и не невинная, как вы вчера бестактно заметили, но все же это не причина… — Настасья Павловна запнулась, не зная, как объяснить, что именно ее смущает и при этом не выдать себя с головою. Так и не подобрав подобающей формулировки, она сказала:
— Не причина нам с вами делить одну каюту. Даже если вы и не покуситесь на мою честь… — кинув на Петра Ивановича взгляд искоса, Оболенская добавила чуть тише — так, что мог расслышать только стоявший рядом Шульц — то, чего говорить вовсе не собиралась: — что, возможно, даже жаль, — усмехнувшись следом, чтобы обернуть сказанное в шутку, она вернулась к прежней теме:
— Одним словом, не представляю, как только подобное могло прийти вам на ум, дорогой дядюшка. Что же касается вас, Петр Иванович, то фигура ваша мне приятна, как человека благородного и достойного, но… — Настасья Павловна передернула плечами, пытаясь придумать, как же ей объяснить свое нежелание находиться рядом с Петром Ивановичем — а вернее, слишком сильное к тому желание, коего следовало непременно избегать, — но неужели вам настолько не хочется переодеваться в женщину, что вы согласны на мою компанию, которая вам, как я поняла из нашей беседы накануне, тоже не особо по душе?
Право слово, Шульц не смыслил в женщинах ровным счетом ничего. К такому неутешительному выводу он пришел, когда слушал монолог Оболенской, что запутал его окончательно и бесповоротно. Ведь чем больше говорила Настасья Павловна, тем более терял нить рассуждений — и своих, и принадлежащих ей — несчастный лейб-квор.