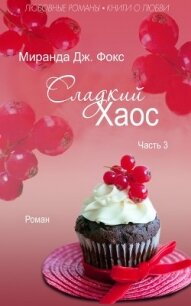Последний проблеск света (ЛП) - Кент Клэр (книги хорошего качества TXT, FB2) 📗
— Жаль, что нельзя посмотреть телик, — говорю я наобум через несколько минут.
— Я видел небольшой телевизор на полке в главной комнате, но мы увидим лишь статический шум. Сейчас уже нет кабельного или трансляций.
— Я даже не видела в доме никаких книг. Интересно, чем этот парень занимался тут в одиночестве. Я была бы не прочь почитать.
— Можешь почитать свои стихотворения.
— Знаю, — я улыбаюсь и поворачиваюсь на бок лицом к нему. — Я все равно заучила большинство из них. Я пару раз видела, как ты их читал. Что думаешь?
— Неплохо, — он смотрит в потолок. — Некоторые хорошие. Некоторые я не смог понять. Почему ты их так любишь?
— Не знаю. Просто люблю. В девятом классе у меня была очень хорошая учительница английского, мисс Дженсон. Она была очень молодой (закончила колледж год или два назад), и она привила мне любовь к поэзии. Наверное, с этого все и началось.
— Мне понравилось стихотворение про парня, который убил свою жену.
Я хмурюсь, по памяти перебирая стихи в книге.
— Которое? «Аннабель Ли»?
— Нет. Я думал, тот парень просто спал с ее мертвым телом, — он кажется искренним, задумчивым, будто и правда пытается понять стихотворения.
Я усмехаюсь.
— Да. Наверное, именно это там и описывается.
— В этих стихах много жуткого. Я имел в виду то, где у богача был ее портрет, но это он ее убил. Ты понимаешь, о каком я?
— О да. «Моя последняя герцогиня». То есть, ты догадался, что он ее убил?
— Естественно. Жуткий тип. Богатый, бессердечный засранец. Но стихотворение мне понравилось.
Поддавшись импульсу, я начинаю читать стихотворение в темноте. Я столько раз декламировала его вслух, что слова сами слетают с языка.
Трэвис слушает, весело фыркая, когда я добираюсь до лучших строк.
«Так опускаться, унижать себя,
Я вовсе не намерен был».
Когда я заканчиваю, он протягивает руку, чтобы нежно дотронуться до меня.
— А «Аннабель Ли» знаешь?
Конечно, знаю. Я декламирую его вслух, и эти ритмичные зловещие слова повисают в тишине комнаты.
Когда я заканчиваю, Трэвис протяжно выдыхает.
— Изумительно. У тебя очень хороший голос для чтения стихотворений. Они мне особо не нравились, пока я не услышал их в твоем исполнении.
— Спасибо, — я чуть ли не ерзаю от удовольствия, доставленного его комплиментом.
— Какое твое любимое?
— Не знаю. Может, «Волшебница Шалот»?
— Та, что с леди в башне?
— Да. Оно самое.
— Я не смог понять, почему она умерла. Что произошло, черт возьми? Она ложится в лодке и просто отбрасывает коньки?
Я не могу перестать улыбаться.
— Ага. По сути, так и есть. Думаю, подразумевается, что она умерла от любви или типа того.
— Ты знаешь его наизусть?
— Да. Да, знаю.
С минуту я колеблюсь, затем начинаю читать его вслух. Оно длинное и занимает некоторое время, но я чувствую напряжение в теле Трэвиса, пока он слушает.
Он правда слушает.
На середине мне так и хочется что-то сделать со своими руками, так что я поднимаю руку Трэвиса с покрывала. Я играю с ней, ощупывая его костяшки и водя большим пальцем по его ладони.
Он не убирает руку.
— Очень красивое, — говорит он, когда я закончила. — Напоминает мне о тебе.
— Правда? Почему?
— Не знаю. Просто напоминает, — он кажется застеснявшимся, так что я не настаиваю.
— Когда я ездила в Лондон, я видела могилу Теннисона в Вестминстерском аббатстве. Я также видела могилу Браунинга. Он написал то, что про герцогиню. Я была в таком восторге, видя надгробья своих любимых поэтов.
— Не сомневаюсь. Когда ты ездила?
— Когда мне было пятнадцать. Бабушка и дедушка возили меня туда летом. Мы посетили Лондон, Париж и Рим, — я сглатываю, когда реальность накрывает меня подобно удару. Подобно физическому удару из ниоткуда. — Теперь их нет. Городов. Всех трех. Все в них пропало. Они просто… перестали существовать.
Мои глаза щиплет, и я не знаю, почему. Вроде я уже перестала плакать над потерянными вещами.
Трэвис берет меня за руку, переплетая наши пальцы.
— Да. Наверное.
Мое горло болит, но я все равно говорю.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})— Ужасно думать о том, что теперь исчезло из мира. Эйфелева башня. Вестминстерское аббатство. Сикстинская капелла. Я помню, как посещала Лувр и видела Мона Лизу. Все это… все просто… исчезло навсегда.
Я уже плачу, а ведь я больше никогда не плачу. Но слезы текут из глаз, а тело дрожит.
Трэвис протягивает руку и привлекает меня к себе, обнимая обеими руками. Он держит меня, ничего не говоря.
— Прости, — мямлю я, по большей части взяв себя в руки. — Не знаю, что на меня нашло. Это просто вещи. Вещи. Умерли миллиарды людей, и я не могу плакать о них. Я не знаю, почему плачу об этом. О зданиях. О вещах.
— Нее, — хриплый голос Трэвиса окрашивается акцентом. — Это, может, не люди, но это и не просто вещи. В них вложено ужасно много смысла. Истории. Не знаю. Правды и красоты… как говорилось в том стихотворении. В непонятном про урну. То, что делает искусство хорошим.
— Человечность, — говорю я, смахнув несколько слезинок и найдя нужное слово.
— Человечность, — Трэвис как будто пробует слово. — Да. Что-то такое. В этих вещах заложено много человечности. И об их потере стоит плакать.
Я еще немного плачу и теперь уже не чувствую себя виноватой. Я утыкаюсь лицом в теплую обнаженную грудь Трэвиса, пока эмоции не исчерпывают себя.
— Хотелось бы мне поплакать и о людях, — шепчу я в темноте.
Трэвис очень нежно гладит меня по волосам.
— Может, однажды и сумеешь. Но я понимаю. Я тоже это чувствую. Иногда нам надо плакать о мелочах, потому что большие вещи — слишком бльшие.
Я шмыгаю носом и вытираю глаза простыней, затем снова прижимаюсь щекой к его груди. Я чувствую его сердцебиение. Оно быстрое и размеренное. Живое.
Когда я полностью расслабляюсь, Трэвис бормочет:
— Готов поспорить, Мона Лизу спасли.
— Что?
— Ну Мона Лизу? Это же картина, так? Я ее никогда не видел, но она не может быть слишком большой. У них была пара месяцев перед падением астероида. Кто-нибудь наверняка додумался ее спасти. Кто-то должен был отвечать за это. Они бы не позволили ей просто сгореть.
Я улыбаюсь от серьезности его голоса, еще несколько раз шмыгая носом.
— О. Да. Наверняка.
— Возможно, мы потеряли Эйфелеву башню. И Сикстинскую капеллу. И то место, где похоронены все твои поэты. Но кто-то должен был спасти Мона Лизу.
— Да. Да, — я вытягиваюсь, чтобы поцеловать его в подбородок. — Готова поспорить, так и есть.
— Я это знаю, — он утыкается в мои волосы носом в темноте. — Может, когда-нибудь в далеком будущем они отстроят мир до прежнего состояния. Может, я даже однажды посмотрю на нее.
Я крепко обнимаю его.
— Может быть. Мне понравилось, что ты сказал. Про правду, красоту и все такое. Это было очень умно.
Трэвис фыркает.
— Я никогда не говорил ничего умного об искусстве. Просто читал эти стихи и пытался их понять. Раз ты их так любишь.
Такое чувство, будто он улыбается.
Я тоже улыбаюсь.
Теперь мне лучше. Ноющая боль в груди отступила.
Может, это какая-то странная и внезапная надежда, но мне это помогает. Мона Лиза могла пережить разрушение Европы. И через десятки лет у Трэвиса может появиться шанс ее увидеть.
Когда теряешь почти все, ты черпаешь надежду там, где удается ее достать.
Спасение Моны Лизы.
Искорка человечности после конца света.
Я засыпаю, гадая, куда они могли поместить картину, чтобы сберечь ее.
Глава 8
Я просыпаюсь, зная, что проспала долго, и время уже очень позднее. В комнате светло даже с закрытыми ставнями, и я не ощущаю знакомого тяжелого утомления, от которого сложно даже открыть глаза.
Я смотрю в потолок и вспоминаю, где я.
Повернув голову, я вижу, что Трэвис крепко спит рядом со мной. Его рот слегка приоткрылся, обе руки лежат поверх одеяла.