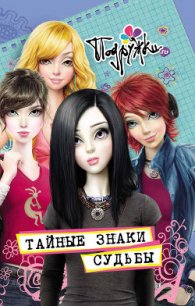Тайны темной осени (СИ) - Чернышева Наталья Сергеевна (книги полностью бесплатно TXT) 📗
Снег таял, оплывая грязными сугробами. Метель то возвращалась и тогда всё вокруг тонуло в сером жемчужном полумраке, то уносилась в даль, и мир поджигало весёлое солнце, согревавшее, если ему подставить, лицо совсем не по-зимнему. Световой день прибавлялся стремительно: дышали в Город подступающие белые ночи.
И однажды, на вскрывшемся из-под зимнего покрова газоне зажглись яркими жёлтыми пятнышками первоцветы — мать-и-мачеха, самый первый весенний цветок Петербурга. Крокусы ещё держали свои бутоны сомкнутыми, словно сомневались, стоит ли цвести. Иногда среди жёлтого мать-и-мачехиного ковра проступали синие пятна пролесков. Такие маленькие яркие колокольчики, синие, иногда фиолетовые.
Я изрисовала жёлтым и фиолетовым два блокнота подряд, пока меня наконец не отпустило.
Есть что-то грандиозное в этих нежных лепестках, доверчиво раскрывающихся в холода и в непогоду, иногда — ещё прямо под снегом. Торжество жизни над уходящим, но всё ещё могучим, ещё способным обречь, холодом…
А потом я увидела Олю… Она смотрела на меня, и лицо у неё было такое… такое…
Даже не зависть к тем, кто не утратил возможности бегать, прыгать и просто ходить. Нет. Отчаяние. Глубокое, задавленное, постоянно сдерживаемое, а вот сейчас проступившее со всей своей угрюмой силой. Я помнила, Оля очень хотела родить ребёнка. Прикладывала для этого все усилия, ничего не выходило. А теперь её шёл тридцать седьмой год, и ноги, уже похудевшие от прежних вдвое — если мышцы не работают, то они атрофируются, известная беда всех колясочников, — когда рожать? Как рожать? От кого?
Об Алексее мы с нею не заговаривали. Я просто не знала, что говорить. Во всяком случае, не правду. Я однажды попыталась рассказать часть правды, касавшейся только меня, и что вышло? Спасибо, больше не хочу. Винила ли Ольга себя за смерть Алексея, она ведь уверена была, что он находился в момент катастрофы рядом с нею в машине? Она не рассказывала. Но что-то этакое, я уверена, поедом её душу всё-таки ело. За рулём ведь была она.
Когда мы вернулись, я разложила у себя в комнате на своём рабочем столе плотный лист А4 из белой чёрным и оранжевым папки с пометкой: бумага для черчения. Такие листы подходили для рисунков карандашом лучше всего.
Я не рисовала Ольгу никогда, боялась. Вдруг нарисуется у меня что-нибудь плохое? Во время работы карандаши жили сами по себе, я уже успела много раз в этом убедиться. Мой странный дар не знал тормозов и не умел работать вполовину силы. Скоростей у него было всего две: ноль и максимум.
Если я нарисую Ольгу и нарисую о ней плохое, то хоть верь, хоть не верь, а оно сбудется так, как нарисуется.
Мне на глаза вдруг попал простой карандаш в зелёном деревянном кожухе, подарок Лаврентия блин Павловича ака Всеслава Ярополка. Волшебный, он сказал. Волшебный! Я осторожно взяла карандаш двумя пальцами.
Мастера во многом делает его собственный инструмент. Конечно, дар не пропьёшь. Но рисунок плохим пишущим предметом и рисунок хорошим — земля и небо, без вариантов.
Я нанесла на девственно чистую бумагу первый штрих…
Мир провалился куда-то за горизонт событий. Волшебный карандаш жил в моей руке, открывая пласты иной реальности. Той реальности, где Оля танцевала вальс с молодым капитаном на собственной свадьбе и той реальности, где они вместе, пересмеиваясь друг с другом, катили по дорожкам парка двойную коляску, и ещё той, где дети, взявшись за руки, убегали, дурачась, от догоняющей их на самокате матери.
Штрихи текли, менялись, ложились один на другой по собственной моей воле, а не сами собой, как раньше. Я меняла реальность… и когда я осознала, что я творю с самой основой Мироздания, карандаш с лёгким укоризненным треском сломался в пальцах и истаял, как палмя восковой свечи на ветру.
Я медленно приходила в себя, чувствуя сухость во рту и странную боль не в теле, а в глубине своей души. Как будто… что-то… не успела. Не смогла. Не доделала.
Но коллаж из рисунков не выглядел незаконченным! Пять полей, пять разных ситуаций, ни капли мрака или караулящей за поворотом беды!
— Да-а, — сказала за моей спиной Оля, тихо вкатившаяся в мою комнату, пока я работала. — Впечатляет. Ты настоящий художник, Римус… Из тех, что приходят раз в пятьсот лет, чтобы оправдать существование мира.
— Глупости, — неуверенно отозвалась я. — Это просто… эскиз. Зарисовка.
— Не скромничай. Посмотри ещё раз — это великолепно.
— Скажи ещё, — гениально, — привычно буркнула я, обращая на саму себя едкий сарказм.
Я не считала себя гением. Более того, я не считала свои рисунки чем-то таким уж грандиозным. Они помогали Городу открывать свою Дверь для добра, а на большее я не посягала. Не те силы, не те умения, не те знания. Мне довольно было моей скромной роли… и вот бы ещё раз увидеть Похоронова! Хотя бы раз, хотя бы издали… хотя бы одним глазком!
— Кто эта женщина? — привычно спросила Оля, гладя рисунки тонкими пальцами. — Где ты увидела её? Странно, но её лицо… кажется, я тоже видела её… но где.
— В зеркале, — засмеялась я. — Ты каждый день видишь её в зеркале! Оля, это — ты.
— Не может быть!
— Я увидела тебя — так.
— Я никогда не смогу ходить, — Оля уронила руки и теперь в упор смотрела на меня. — Ты же видишь. Ты вместе со мной читала мою амбулаторную карту. Все эти выписки, заключения врачей, рентгены.
— Оля, — серьёзно сказала я, опускаясь перед ней на колено и беря в свои руки её подрагивающие пальцы, — ты веришь в волшебство?
— Ты опять сходишь с ума? — устало спросила она. — Как тогда, с твоей беременностью от бога?
Я замотала головой: нет.
— Я просто увидела тебя — так, — кивнула я на рисунок. — Оля, ты сможешь ходить. Ты встанешь на ноги. Выйдешь замуж И родишь близнецов.
Она молчала, кусая губы. Жестоко, но как ещё поделиться с нею своей радостью: я смогла! Я переписала подаренным волшебным карандашом её будущее, правда, истратив до последнего атома сам карандаш. Но для чего ещё его надо было беречь? Засолить, может быть, или в футляр спрятать и в банковскую ячейку отнести?!
— Не верю, — тяжело уронила Оля наконец.
— Правильно, — неистово закивала я. — В мои рисунки нельзя верить. Петля Кассандры. Не верь, Оля. И вот тогда они точно сбудутся.
— Ты смеёшься надо мной?
— Что ты! Нет.
— Тогда зачем говоришь такое… и так…
И губы у неё запрыгали. Моя крепкая, умная, сильная духом старшая сестра! Как тебе хотелось поверить, и как ты не могла поверить, и сколько боли в тебе накопилось, оказывается, за последние эти чёрные полгода!
Я обняла её, гладила по голове, говорила и говорила, как я люблю её, и что всё будет хорошо, надо только немного подождать…
Закончилось всё тем, что я сама разрыдалась. И так мы ревели оба, не знаю, сколько времени. А потом, отрыдавшись, пошли на кухню и приготовили омлет.
Рисунок этот, ничуть не изменившийся со временем, Оля вставит потом в рамку и будет держать в своём рабочем кабинете. Как символ надежды и веры на самом краю отчаяния, когда кажется, что всё пропало и остаётся лишь только шагнуть вниз, закончить свою никчёмную жизнь коротким полётом к асфальту с тем, чтобы расплескать по нему свои мозги.
Оля признается, что мысли о самоубийстве посещали её тогда не раз и даже не два. Не раз и не два она цеплялась за перила и подтягивалась на руках, буквально подвешивая себя между жизнью и смертью. И каждый раз её останавливала мысль обо мне и моём будущем ребёнке: на кого нас оставить? Как навесить на нас похороны и связанную с ними страшную суету?
Я поблагодарю её. Что ещё мне останется сделать?
Оля пошла летом, после сложнейшей операции на спине. Сомневалась, боялась, но терять-то было нечего, и она в конечном итоге согласилась поучаствовать в эксперименте. Что ей было терять? Ноги, которые и так лежали в коляске бесчувственными колодами?
Ходить она начала с трудом — мышцы атрофировались, их надо было восстанавливать. И уж боли она наелась… Не каждому по силам вынести хотя бы вполовину подобного.