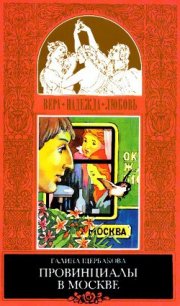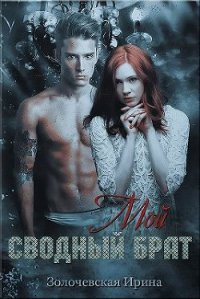Лизонька и все остальные - Щербакова Галина Николаевна (онлайн книга без .txt) 📗
– Ты, папка, материшься? Ты что?
– Вот именно… Матерюсь… Потому что нормальных слов оценить твое поведение – нету. Поэтому приходится искать слова в местах, соответствующих поступкам…
Ниночка стала рыдать, нормальная реакция женщины на такой случай. Сказала, что сама решила уезжать отсюда к чертовой матери…
– Давай подумаем, куда, – сказал он ей. Спокойно сказал, хотя категорически был против. Она одна из детей с ними осталась, в Лизоньке они души не чаяли. Уедет, а оставит ли Лизоньку им? А если оставит, то ей самой большая опасность в жизни, потому как будет уже не свобода – воля. Куда она крутанет, эта воля, дело темное. Но не сказал он ей этого, а решил направить мысли дурочки в другом направлении.
– Уехать, конечно, можно, но лучше сначала овладеть хоть какой профессией.
– Ну, какой? – с тоской спросила Ниночка, еще не избавившаяся окончательно от отвращения к учению в семилетке. Вот тогда он ей и подсказал освоить пишущую машинку, работа чистая, интеллигентная, а в школе она была девочка грамотная. Вообще у них семья грамотная в смысле правописания. Только вот Леля всегда пишет «извените», хотя он ей несколько раз намекал, как нужно правильно. И действительно, машинописное дело у Ниночки пошло, коротенькие ее пальчики были ловкие и быстрые. Она приходила с работы удовлетворенная, бывало, они возвращались вместе, его бухгалтерия была рядом с их отделом.
Хорошо помнится, как они тогда увидели Еву. Городок маленький, все друг друга знают как облупленные. А тут идет стройная высокая кучерявая девушка с умным лицом еврейского типа. «Новая география в школе», – сказала Ниночка. Значит, слух уже пошел. О, Ваня, Ваня, где тебя черти носят, если ты живой? И на каком ты небе, если мертвый? Такого, как он, кобелистого мужика, у которого другого нюха, как на женщину, в жизни не было, старик не знал. Во всяком случае, пропустить мимо пальцев высокую географичку с умным еврейским лицом он, конечно же, не мог. Вскоре он с ней записался в загсе чин-чинарем и стал ходить всюду под ручку, а ходить до войны у них, как это ни странно, было куда, еще не все сломали до основанья, и был у них ресторан с белыми скатертями, и было кафе, и был Дворец культуры, где был прекрасный хор под руководством Исаака Моисеевича Кагановича. Все спрашивали его – не родственник ли он того Кагановича, на что Исаак таинственно надувал щеки – понимай, мол, как знаешь. То, что он непородный Каганович, выяснилось очень скоро, когда его выпихнули в грудь из единственного эшелона, уходившего от них в эвакуацию. Комплектацией этого эшелона занимался, естественно, Уханев, и раз он вытолкнул семью этих Кагановичей, значит, был уверен, что тот Каганович в претензии не будет. Поэтому после войны никакого хора в их городе больше нет, как нет и ресторана, и кафе, а есть одна столовка, от которой разит, хоть святых выноси.
Вообще с этой химерой превращения деревни в город стрезва не разберешься. Значит, были они когда-то деревней. Все на ее земле росло, и овечки бегали, пока не стали копать шахты оборотистые англичане. Но шахта не сразу забыла, что произошла из земли, где все-все росло и бегали овечки. Какие у них в поселке были до войны базары! Ну – все! Овощное и мясное, и рыбное из недалекого Азовского моря. Все дело в том, что колхозы тут были слабосильные, никакие, можно сказать. Советская власть двумя глазами глядела только под землю, в «добычу угля», и не обращала внимания на человеческую хитрость, которая так сумела, что и в шахте уголек рубала, но и огородик содержала в порядке. Вообще у старика была всего одна выношенная до конца и полного завершения мысль. Другие мысли, как правило, конца не имели – они или вообще обрывались, или от неясности мочалились. Так вот. Он считал, что люди в их краях держались и не курвились дольше других именно потому, что тут лучше питались от собственного труда. «Бытие, – думал старик не по Марксу, – не сознание определяет, а душу. Сознание – вещь хитрая и промежуточная, в чем-то оно и подлое, так как способно хоть в чем человека оправдать. Если говорить откровенно, то сознание в жизни – адвокат, а душа в жизни – судья. Тогда кто прокурор, возникает вопрос, если уж идти в мысли до конца? Жизнь! Сама твоя жизнь тебе и прокурор, и приговор, но до того за тебя бодаются, будь здоров как, – адвокат и судья: Так вот, если человек живет в человеческих условиях, обут, одет, сыт, и почитать ему есть что, и развлечься есть куда пойти, у человека вся эта троица – адвокат, судья и прокурор – могут себе полеживать. Потому что человек спокоен. А как начнет душу крутить, тут как раз и появляется сознание… Маркс по причине своей, видимо, нормальной по человеческим меркам жизни просто не знал, как это бывает, когда болит душа. Он ковырял свою неподъемную науку про «сапоги-холст», «холст-сапоги», – пропади она пропадом! – но лучше, чем придумал сам человек, ничего не придумал. А лучше – когда душа покойна».
На их поселке, который потом стал натужно выбиваться в город, можно всю политэкономию изучить без учебников. Были базары, и случая не было, чтоб где-то был брошен дитенок на произвол судьбы. И даже с образованием четыре класса люди снимали шапку перед старшими и говорили: «Здравствуйте вам». Полная вакханалия началась уже после войны, и удержу нет ей до сих пор. Тут тоже есть одна недодуманная мысль. Почему так расцвело воровство именно после войны, дойдя уже в наше время до размеров таких, что иногда думалось: не погибли ли мы уже окончательно, весь советский народ, если мы – такое ворье? Может, это справедливо – на нас бомбу, как на чуму, холеру? Чтоб спалить до чистоты первозданной природы? Вдруг мы вселенская зараза?
Так вот. Воровство пошло именно после войны, потому что народ-победитель, убедившись, что властям это все равно, победитель он или нет, инстинктивно стал брать что плохо лежит, этим самым как бы восстанавливая справедливость по отношению к самому себе. Но это так… Мысль недодуманная, а надо возвращаться в довойну, когда люди могли уходить из дома, закидывая на двери алюминиевый крючок, а ворота задвигая деревянным засовом, доступным для любого ребенка. Конечно, не надо забывать, что кое-где запоры и засовы были будь здоров, и уханевское хозяйство работало без выходных, но базары и совесть тоже еще были. Вот именно тогда в один из дней Ваня Сумской гордо вез на подводе в роддом беременную Еву. Наш народ зоркий и подмечающий, он тут даже сопоставил факты, что ни первую жену, а у него была и первая, ни Ниночку Ванька на подводе не возил, они сами, собственными ногами шли туда, куда звала пробуждающаяся жизнь. Именно этот факт сыграл решающую роль в отношении к Еве Нюры. Конечно, ей стало обидно за дочь, чем она была хуже? И Нюра запалилась ненавистью к Еве, Розиной мамы. А тут сейчас в разговоре, пока Роза лежит на их кровати, выясняется, что они встречались – Нюра и Ева. Уже тогда, когда огнем горела на Еве желтая звезда.
– Жуть, – сказала Нюра. – Вспомнить – жуть. Прибегает ко мне сама не своя Ароновна.
– Кто? – не понял старик. В Нюрины речи бывает трудно войти и сразу все понять.
– Ну? Ты дурной? Мать Кагановича. Ты, наверно, совсем забыл его, а Роза вообще не знает… Был такой, во Дворце работал… («Ха! – подумал старик. – Я только что о нем тоже вспомнил».) И говорит: «Или вы спасете моих внуков тоже, или я расскажу, что ваша дочь спрятала дочь Евы. Это нехорошо, конечно, это грех страшный, но у меня нет другого выхода…» «Ароновна! – говорю я ей. – Сообрази своей головой, кому от этого будет лучше?» – «А мне уже все равно, – сказала сумасшедшая Ароновна. – Если гибнут Нема и Сара, пусть гибнут все». – «Нехорошо говоришь! Но я тебя понимаю. Ниночку больше не трожь. Она сделала все, что могла. Теперь я тебе дам один адрес… Это бывшая моя деревня… Там людей, считай, нет, извели всех, но мы в бывшем огороде картошку еще сажаем, а когда дождь или что, прячемся возле гребли, там наш сарай стоит еще от моего деда. Вы там пока сховайтесь, место ниоткуда не видное, а дальше посмотрим». Я ей нарисовала путь, – продолжала Нюра, – но Каганович ведь был дурак. Палочкой он туда-сюда еще умел, а больше в жизни ничего не соображал. Он напустился на свою мудрую мать, что она недооценивает немецкой культурности и схожести их языков, немецкого и идиша.